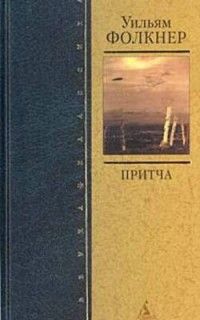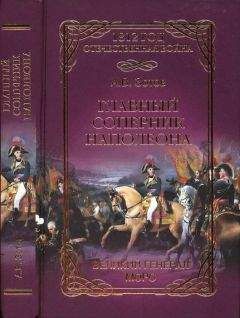— Ладно, — сказал он, — ладно. Я прикрою и лицо…
Только в этом не было необходимости: на этом расстоянии линия огня как раз проходила через его грудь. Он в последний раз взглянул на прицел, потом чуть склонил голову, скрестил руки перед лицом и сказал: «Готово». Раздался треск пулемета, темная миниатюрная роза замерцала на стекле его наручных часов, резкое, жгучее (это были какие-то гранулы; если бы он находился в трех футах отдула, а не в тридцати, они убили бы его, как настоящие пули. И даже на этом расстоянии ему пришлось упереться не для того, чтобы не отступить назад, а чтобы не быть сбитым с ног: в этом случае — при падении линия огня пошла бы вверх по груди, и прежде, чем Брайдсмен прекратил бы огонь, последние заряды могли бы попасть ему в лицо), колющее чок-чок-чок прошло по его груди, их прежде, чем он ощутил жжение, почувствовался тягучий, ядовитый запах горящей ткани.
— Снимай комбинезон! — крикнул Брайдсмен. — Его не погасишь! Снимай, черт возьми! — И Брайдсмен стал расстегивать комбинезон.
Он сбросил с ног летные сапоги и высвободился из него. От комбинезона шел тягучий, невидимый, вонючий дым.
— Ну что? — спросил Брайдсмен. — Теперь ты доволен?
— Да, спасибо, — сказал он. — Теперь все в порядке. Почему он застрелил летчика, Брайдсмен?
— Слушай, — сказал Брайдсмен, — убери его от машины, — схватил комбинезон за штанину и хотел отбросить в сторону, но он удержал руку Брайдсмена.
— Постой, — сказал он. — Надо вынуть пистолет. А то меня отдадут за него под трибунал.
Он вынул пистолет из наколенного кармана комбинезона и сунул его в карман мундира.
— Ну и все, — сказал Брайдсмен. Но он не бросил комбинезона.
— Его надо в мусоросжигатель, — сказал он. — Здесь оставлять нельзя.
— Ладно, — сказал Брайдсмен. — Пошли.
— Брошу в мусоросжигатель и приду.
— Пошли. Денщик бросит.
— Опять у нас заигранная пластинка, — сказал он.
Брайдсмен выпустил штанину комбинезона, но с места не двинулся.
— Потом приходи.
— Непременно, — сказал он. — Только нужно будет зайти в ангар, сказать, чтобы закатили машину. Почему, же он убил летчика, Брайдсмен?
— Потому что он немец, — сказал Брайдсмен с какой-то спокойной и яростной терпеливостью. — Немцы воюют по уставу. А по уставу немецкий летчик, посадивший на вражеский аэродром неподбитый немецкий аэроплан с немецким генерал-лейтенантом, либо трус, либо предатель и поэтому заслуживает смерти. Этот бедняга, наверно, еще утром, завтракая сосисками и пивом, знал, что его ждет. Если бы генерал не застрелил его, немцы, наверно, расстреляли бы генерала, как только он попал бы им в руки. Брось комбинезон и приходи.
— Хорошо, — сказал он.
Брайдсмен ушел, и снова он побоялся свернуть комбинезон, чтобы нести его. Потом подумал, что уже все равно. Он свернул комбинезон, подобрал сапоги и пошел к ангарам. Ангар звена В был открыт, туда вкатывали машины майора и Брайдсмена; устав, очевидно, запрещал ставить немецкий аэроплан под английский навес, но, с другой стороны, потребовалось бы по меньшей мере шестеро англичан (и поскольку пехота, видимо, уже ушла, это были бы авиамеханики, непривычные ни к оружию, ни к бессонным ночам), чтобы всю ночь посменно ходить возле него с винтовками.
— У меня заело пулемет» — сказал он. — Патрон застрял в стволе. Капитан Брайдсмен помог его извлечь. Теперь можно закатить машину.
— Слушаюсь, сэр, — сказал механик.
Он неторопливо пошел со свернутым комбинезоном под мышкой, обогнул ангары и в сумерках направился к мусоросжигателю за солдатской столовой, потом вдруг резко повернул к уборной; там будет совершенно темно, если никто не придет с фонариком (у Колльера был жестяной подсвечник; входя в уборную и выходя оттуда, он походил на монаха с тонзурой и подтяжками, обвязанными вокруг талии под распахнутой шинелью). Было темно, и запах тлеющего комбинезона внутри ощущался сильнее. Он поставил сапоги и развернул комбинезон, но даже в полной темноте огня не было видно, лишь медленное, удушливое, невидимое тление; он слышал: в прошлом году одному человеку из звена В трассирующая пуля угодила в кость щиколотки, и ему по сих пор отрезали кость, гниющую от фосфора; Торп говорил, что в следующий раз ему отрежут ногу по самое колено в надежде, что гниение прекратится. Конечно, этот парень совершил ошибку, что не отложил вылет на патрулирование, к примеру, до послезавтра (или до завтра, или до сегодняшнего дня, только Колльер не позволил бы ему этого), только как можно было знать об этом год назад, если он сам знал одного человека в эскадрилье, который догадался лишь, когда в него выстрелили холостым зарядом, и даже тогда словно бы не мог поверить в это? Он снова свернул комбинезон и с минуту шарил в полной темноте (когда глаза привыкли, кое-что можно было разглядеть. Брезентовые стены еле заметно светились, словно запоздалый день начинался внутри, окончившись снаружи), ища сапоги. Снаружи было еще не совсем темно, темнеть начало лишь два или три часа назад; и теперь он пошел прямо к Брайдсмену, входя, он положил свернутый комбинезон к стене возле двери. Брайдсмен умывался в одной рубашке; на ящике между койками стояла бутылка виски и кружка с зубными щетками. Брайдсмен вытер руки и, не опуская засученных рукавов, вынул из кружек зубные щетки, налил туда виски и протянул ему кружку Каури.
— Пей, — сказал Брайдсмен. — Если это виски чего-нибудь стоит, оно выжжет микробов, что оставил там Каури, или тех, что напустишь туда ты.
Они выпили.
— Еще? — спросил Брайдсмен.
— Нет, спасибо. Что они сделают с аэропланами?
— О чем ты? — спросил Брайдсмен.
— Об аэропланах. Наших машинах. Я не успел ничего сделать со своей. Но будь у меня время, сделал бы. Понимаешь: чтобы привести ее в негодность. Врезаться бы на ней во что-нибудь — в другой аэроплан, стоящий на взлете, может быть, в твой. Чтобы сломать, уничтожить сразу два аэроплана, пока их не продали южноамериканцам или левантинцам. Чтобы кто-то в мундире опереточного генерала не ввел наши машины в какие-то военно-воздушные силы не принимавшие участия в этой войне. Может, Колльер разрешит мне еще один взлет. Тогда я разобью…
Брайдсмен неторопливо подошел к нему с бутылкой в руке.
— Подставляй кружку.
— Нет, спасибо. Ты, наверно, не знаешь, когда нас отпустят домой.
— Будешь пить или нет? — спросил Брайдсмен.
— Нет, спасибо.
— Ладно, — сказал Брайдсмен. — Предлагаю тебе выбор: или пей, или помолчи-перестань-кончай. Что ты предпочтешь?
— «Перестань, перестань…» Что перестать? Конечно, я понимаю, что сперва должны отправиться домой пехотинцы — они провели четыре года в грязи, сменяясь на передовой через две недели, и не было причины радоваться или удивляться тому, что ты еще жив, потому что их отводили с позиций почистить винтовки и посчитать боезапас перед тем, как вернуться обратно, так что радоваться было нечему, пока воина не кончилась. Конечно, они должны первыми вернуться домой, навсегда забросить проклятые винтовки и, может, через две недели даже избавиться от вшей. А тогда днем работать, вечерами сидеть в пивных, а потом идти домой и спать с женами в чистых постелях…
Брайдсмен держал бутылку так, будто собирался его ударить.
— Ты прав, черт возьми. Подставляй кружку.
— Спасибо, — ответил он и поставил кружку на ящик. — Ладно. Я перестал.
— Тогда иди умойся и приходи в столовую. Прихватим еще одного-двоих и пойдем ужинать к мадам Мило.
— Колльер утром сказал, что уходить с аэродрома нельзя. Наверно, он знает. Видимо, остановить войну так же трудно, как и начать. Спасибо за виски.
Он вышел и сразу же ощутил запах тлеющего комбинезона, нагнулся, поднял его и пошел к себе. Там, разумеется, никого не было; в столовой, видимо, ожидалось празднество, может быть, даже попойка. Зажигать лампу он не стал; бросив сапоги и затолкав их ногой под койку, он аккуратно положил комбинезон на пол возле нее, лег и спокойно лежал на спине в этом подобии темноты, вдыхая запах тлеющего комбинезона, и не встал, даже услышав, как Берк обругал что-то или кого-то; хлопнула дверь, и Берк сказал:
— Черт возьми, чем тут воняет?
— Моим комбинезоном, — сказал он, не вставая с койки, пока кто-то зажигал лампу. — Он загорелся.
— За каким чертом ты принес его сюда? — спросил Берк, — Хочешь спалить домик?
— Ладно, — сказал он, свесил ноги на пол, встал и поднял комбинезон, все поглядели на него с любопытством; Де Марчи стоял у лампы, держа в руке горящую спичку.
— В чем дело? Попойка не состоялась?
Тут Берк снова обругал Колльера, прежде чем Де Марчи успел сказать:
— Колльер закрыл бар.
Он вышел. Еще не совсем стемнело; он мог разглядеть даже стрелки на своих часах — двадцать два часа (нет, просто десять часов вечера, потому что теперь время тоже было в штатском), свернул за угол домика и положил комбинезон возле стены, не слишком близко к ней; весь северо-запад походил на громадный церковный витраж, он прислушался к тишине, насыщенной множеством еле слышных звуков, он никогда не слышал их во Франций и не знал, что они здесь существуют, потому что они олицетворяли Англию. Но он не мог вспомнить, сам ли он слышал их в Англии по вечерам или кто-то рассказывал ему о них, потому что четыре года назад, когда эти мирные вечерние звуки были законными или по крайней мере de nigeur[9] он был ребенком и не мечтал ни о какой форме, кроме бойскаутской. Потом он вернулся; запах ощущался до самой двери и даже за ней, хотя, возможно, ему это просто казалось. Все уже улеглись, он надел пижаму, погасил лампу, лег и неподвижно, спокойно лежал на спине. Уже начался храп — Берк постоянно храпел и набрасывался с руганью на каждого, кто говорил ему об этом, — и он не мог думать ни о чем, кроме течения ночи, течения времени; крупицы его еле слышно шелестели, то ли выходя откуда-то, то ли куда-то входя, и он снова осторожно опустил ноги на пол, сунул руку под кровать, нашел сапоги, надел их, бесшумно нашел шинель, накинул ее и вышел; ощутив запах еще возле двери, зашел за угол и сел возле комбинезона, прислонясь спиной к стене, было не темнее, чем в двадцать два часа (нет, теперь уже в десять часов вечера); громадный церковный витраж медленно перемещался к востоку, и не успеешь заметить, как он заполнится, обновится светом, потом выйдет солнце и наступит завтра. Но они не станут дожидаться утра. Должно быть, пехотинцы уже выползают в темноте длинными рядами из своих первобытных, пагубных, роковых, вонючих рвов, пещер и расселин, где провели четыре года, озираются с брезжущей робкой догадкой, хлопают глазами в изумлении и неверии; и он напряженно вслушивался, он непременно должен был услышать то, что будет намного громче, оглушительнее любых возгласов жалкой брезжущей догадки и неверия — единый голос женщин Западного мира от бывшего русского фронта до Атлантического океана и за океаном: немок, француженок, англичанок, итальянок, канадок, американок и австралиек — не только тех, кто лишился сыновей, мужей, братьев и любимых, этот вопль не умолк с той минуты, как пал первый (войска жили среди этого вопля уже четыре года), но и поднятый только вчера или сегодня утром теми женщинами, которые сегодня или завтра лишились бы сына или брата, мужа или любимого, если б война продолжалась, а теперь не лишатся, потому что она прекратилась (не его подружками и, конечно же, не его матерью, она ничего не потеряла и даже ничем не рисковала; времени прошло слишком немного) — вопль гораздо более сильный, чем жалкий возглас догадки, ведь мужчины еще не могли полностью поверить в конец войны, а женщины могли, они верили во все, чего им хотелось, не делая различия (у них для этого не было ни желания, ни нужды) между воплем облегчения и страдания.