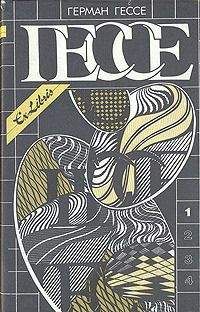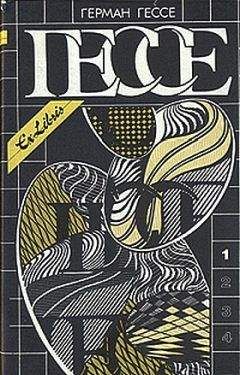Шло время, молодые старились, старики умирали. Лишь гора стояла неизменная, вечная, и, когда сквозь облака на вершине сверкали снега, казалось, будто гора улыбается, радуясь, что она не человек и что незачем ей вести счет времени по людским меркам. Высоко над городом, над всем краем блистали горные кручи, гигантская тень горы день за днем скользила по земле, ручьи и реки знаменовали смену времен года, гора приютила всех, как мать: на ней шумели леса, стелились пышные цветущие луга, били родники, лежали снега, льды и скалы, на скалах рос пестрый мох, а у ручьев — незабудки. Внутри горы были пещеры, где серебряные струйки год за годом звонко стучали по камню, в ее недрах таились каверны, где с неистощимым терпением росли кристаллы. Нога человека не ступала на вершину, но кое-кто уверял, будто есть там круглое озерцо и от веку в него глядятся солнце, месяц, облака и звезды. Ни человеку, ни зверю не довелось заглянуть в эту чашу, которую гора подносит небесам, — ибо так высоко не залетают и орлы.
Народ Фальдума весело жил в городе и в долинах, люди крестили детей, занимались ремеслом и торговлей, хоронили усопших. А от отцов к детям и внукам переходила память — память о горе и мечта. Охотники на коз, косари и сборщики цветов, альпийские пастухи и странники множили эти сокровища, поэты и сказочники передавали из уст в уста; так и шла среди людей молва о бесконечных мрачных пещерах, о не видевших солнца водопадах в затерянных безднах, об изборожденных трещинами глетчерах, о путях лавин и капризах погоды. Тепло и мороз, влагу и зелень, погоду и ветер — все это дарила гора.
Прошлое забылось. Рассказывали, правда, о чудесной ярмарке, когда любой мог пожелать что душе угодно. Но что и гора возникла в тот же день — этому никто больше не верил. Гора, конечно же, стояла здесь от веку и будет стоять до скончания времен. Гора — это родина, гора — это Фальдум. Зато историю о трех девушках и скрипаче слушали с удовольствием, и всегда находился юноша, который, сидя в запертой комнате, погружался в звуки и мечтал раствориться в дивном напеве и улететь, подобно скрипачу, вознесшемуся на небо.
Гора неколебимо пребывала в своем величии. Изо дня в день видела она, как далеко-далеко встает из океана алое солнце и совершает свой путь по небосводу, с востока на запад, а ночью следила безмолвный бег звезд. Из года в год зима укутывала ее снегом и льдом, из года в год сползали лавины, а потом средь бренных их останков проглядывали синие и желтые летние цветы, и ручьи набухали, и озера мягко голубели под солнцем. В незримых провалах глухо ревели затерянные воды, а круглое озерцо на вершине целый год скрывалось под тяжким бременем льдов, и только в середине лета ненадолго открывалось его сияющее око, считанные дни отражая солнце и считанные ночи — звезды. В темных пещерах стояла вода, и камень звенел от вековечной капели, и в потаенных кавернах все росли кристаллы, терпеливо стремясь к совершенству.
У подножия горы, чуть выше Фальдума, лежала долина, где журчал средь ив и ольхи широкий прозрачный ручей. Туда приходили влюбленные, перенимая у горы и деревьев чудо смены времен. В другой долине мужчины упражнялись в верховой езде и владении оружием, а на высокой отвесной скале каждое лето в солнцеворот вспыхивал ночью огромный костер.
Текло время, гора оберегала долину влюбленных и ристалище, давала приют пастухам и дровосекам, охотникам и плотогонам, дарила камень для построек и железо для выплавки. Многие сотни лет она бесстрастно взирала на мир и не вмешалась, когда на скале впервые вспыхнул летний костер. Она видела, как тупые, короткие щупальцы города ползут вширь, через древние стены, видела, как охотники забросили арбалеты и обзавелись ружьями. Столетия сменяли друг друга, точно времена года, а годы были точно часы.
И гора не огорчилась, когда однажды в долгой череде лет на площадке утеса не вспыхнул алый костер. Ее не тревожило, что с той стороны он уж никогда больше не загорался, что с течением времени долина ристалищ опустела и тропинки заросли подорожником и чертополохом. Не заботило ее и то, что в долгой веренице столетий обвал изменил ее форму и обратил в руины половину Фальдума. Она не смотрела вниз, не замечала, что разрушенный город так и не отстроился вновь.
Все это было горе безразлично. Мало-помалу ее начало интересовать другое. Время шло, и гора состарилась. Солнце, как прежде, свершало свой путь по небесам, звезды отражались в блеклом глетчере, но гора смотрела на них по-иному, она уже не ощущала себя их ровней. И солнце, и звезды стали ей не важны. Важно было то, что происходило с самою горой и в ее недрах. Она чувствовала, как в глубине скал и пещер вершится неподвластная ее воле работа, как прочный камень крошится и выветривается слой за слоем, как все глубже вгрызаются в ее плоть ручьи и водопады. Исчезли льды, возникли озера, лес обернулся каменной пустошью, а луга — черными болотами, далеко протянулись морены и следы камнепадов, а окрестные земли притихли и словно обуглились. Гора все больше уходила в себя. Ни солнце, ни созвездья ей не ровня. Ровня ей ветер и снег, вода и лед. Ровня ей то, что мнится вечным и все-таки медленно исчезает, медленно обращается в прах.
Все ласковее вела она в долину свои ручьи, осторожнее обрушивала лавины, бережнее подставляла солнцу цветущие луга. И вот на склоне дней гора вспомнила о людях. Не потому, что она считала их ровней себе, нет, но она стала искать их, почувствовав свою заброшенность, задумалась о минувшем. Только города уже не было, не слышалось песен в долине влюбленных, не видно было хижин на пастбищах. Люди исчезли. Они тоже обратились в прах. Кругом тишина, увядание, воздух подернут тенью.
Гора дрогнула, поняв, что значит умирать, а когда она дрогнула, вершина ее накренилась и рухнула вниз, обломки покатились в долину влюбленных, давно уже полную камней, и дальше, в море.
Да, времена изменились. Как же так, отчего гора теперь все чаще вспоминает людей, размышляет о них? Разве не чудесно было, когда в солнцеворот загорался костер, а в долине влюбленных бродили парочки? О, как сладко и нежно звучали их песни!
Древняя гора погрузилась в воспоминания, она почти не ощущала бега столетий, не замечала, как в недрах ее пещер тихо рокочут обвалы, сдвигаются каменные стены. При мысли о людях ее мучила тупая боль, отголосок минувших эпох, неизъяснимый трепет и любовь, смутная, неясная память, что некогда и она была человеком или походила на человека, словно мысль о бренности некогда уже пронзала ее сердце.
Шли века и тысячелетия. Согбенная, окруженная суровыми каменными пустынями, умирающая гора все грезила. Кем она была прежде? Что связывало ее с ушедшим миром — какой-то звук, тончайшая серебряная паутинка? Она томительно рылась во мраке истлевших воспоминаний, тревожно искала оборванные нити, все ниже склоняясь над бездной минувшего. Разве некогда, в седой глуби времен, не светил для нее огонь дружбы, огонь любви? Разве не была она — одинокая, великая — некогда равной среди равных? Разве в начале мира не пела ей свои песни мать?
Гора погрузилась в раздумья, и очи ее — синие озера — замутились, помрачнели и стали болотной топью, а на полоски травы и пятнышки цветов все сыпался каменный дождь. Гора размышляла, и вот из немыслимой дали прилетел легкий звон, полилась музыка, песня, человеческая песня, — и гора содрогнулась от сладостной муки узнаванья. Вновь она внимала музыке и видела юношу: овеваемый звуками, он уносился в солнечное поднебесье, — и тысячи воспоминаний всколыхнулись и потекли, потекли… Гора увидела лицо человека с темными глазами, и глаза эти упорно спрашивали: «А ты? Чего желаешь ты?»
И она загадала желание, безмолвное желание, и мука отхлынула, не было больше нужды вспоминать далекое и исчезнувшее, все отхлынуло, что причиняло боль. Гора рухнула, слилась с землей, и там, где некогда был Фальдум, зашумело безбрежное море, а над ним свершали свой путь солнце и звезды.
Перевод Н. Фёдоровой
В весенние дни детства Ансельм бегал по зеленому саду. Среди других цветов у его матери был один цветок; он назывался сабельник, и Ансельм любил его больше всех. Мальчик прижимался щекой к его высоким светло-зеленым листьям, пробовал пальцами, какие у них острые концы, нюхал, втягивая воздух, его большие странные цветы и подолгу глядел в них. Внутри стояли долгие ряды желтых столбиков, выраставших из бледно-голубой почвы, между ними убегала светлая дорога — далеко вниз, в глубину и синеву тайная тайных цветка. И Ансельм так любил его, что, подолгу глядя внутрь, видел в тонких желтых тычинках то золотую ограду королевских садов, то аллею в два ряда прекрасных деревьев из сна, никогда не колышемых ветром, между которыми бежала светлая, пронизанная живыми, стеклянно-нежными жилками дорога — таинственный путь в недра. Огромен был раскрывшийся свод, тропа терялась среди золотых деревьев в бесконечной глуби немыслимой бездны, над нею царственно изгибался лиловый купол и осенял волшебно-легкой тенью застывшее в тихом ожидании чудо. Ансельм знал, что это — уста цветка, что за роскошью желтой поросли в синей бездне обитают его сердце и его думы и что по этой красивой светлой дороге в стеклянных жилках входят и выходят его дыхание и его сны.