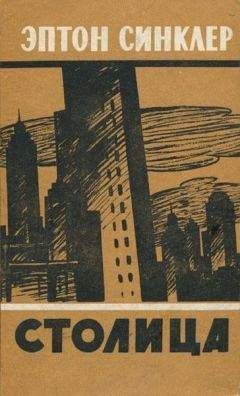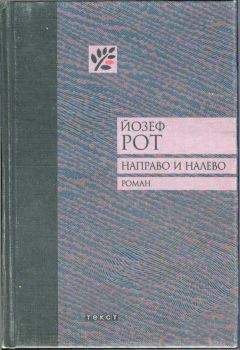Но когда окончилось действие, Оливер, выйдя с ним из ложи, прошептал:
— Ради бога, Аллеи, не строй из себя такого дурака.
— В чем дело? — спросил брат.
— Ну что подумают люди, когда увидят, как ты сидишь словно одурманенный!—воскликнул Оливер.
— А что же тут такого?—рассмеялся Монтэгю.—Они просто поймут, что я слушаю музыку.
— Но в оперу ходят вовсе не для того, чтобы слушать музыку,— возразил Оливер.
Это звучало шуткой, но в сущности дело обстояло именно так. По светским понятиям, посещение оперы было чрезвычайно важным событием, еще более важным, чем выставка лошадей, поскольку здесь собирались люди более изысканного круга и выставлялись напоказ еще более великолепные туалеты и драгоценности. Хозяевами здесь были представители великосветских кругов, так как в сущности оперный театр являлся полной их собственностью. Приходившим в театр подлинным ценителям музыки приходилось либо стоять где-нибудь в последних рядах, либо забираться на пятый ярус, под самый потолок, где было душно и жарко. О том, как мало значения придавали в свете самому спектаклю, можно судить хотя бы по тому, что опера обычно исполнялась на каком-нибудь иностранном языке и слова произносились так небрежно, что даже те немногие из зрителей, которые знали языки, не могли их разобрать. В свое время один великий поэт посвятил всю жизнь тому, чтобы опера стала подлинным искусством, и, борясь во имя этого с обществом, едва не умер с голоду. Теперь, полвека спустя, его гений восторжествовал, и общество милостиво согласилось просиживать в темноте по нескольку часов и слушать семенные пререкания древнегерманских богов и богинь. Но в сущности общество интересовал только сам спектакль, эффектные костюмы, декорации, танцы, красивые арии, которые можно было слушать вперемежку с болтовней; от сюжета требовалось, чтобы он был несложный; чем больше пылких чувств, понятных без слов, тем лучше: ну, например, трагическая любовь красивой куртизанки, наделенной благородной душою, к блестящему светскому юноше или что-нибудь в этом роде.
Почти у всех зрителей в опере имелись бинокли, при помощи которых молодые люди могли приблизить к себе любую из этих роскошно одетых дам и спокойно и обстоятельно ее рассматривать. По слухам, в одном только Нью-Йорке было на двести миллионов долларов бриллиантов, и, по всей вероятности, все они были выставлены напоказ, за исключением тех, которые оставались еще в ювелирных магазинах. Ибо именно здесь они и выполняли единственное свое назначение — красоваться перед теми, кто пришел на них поглядеть. Среди находившихся здесь светских дам девять наиболее выдающихся носили драгоценные украшения общей стоимостью в пять миллионов долларов. Широкие колье, напоминавшие кольчугу, состояли сплошь из сверкающих бриллиантов. Здесь можно было увидеть выставленные напоказ бриллиантовые, изумрудные и жемчужные тиары (то есть украшения в форме венцов и корон), подставкой для которых служила обычно голова какой-нибудь почтенной матроны. Эти украшения ввела в моду одна из представительниц семьи Уоллинга, и теперь их носили все знатные светские дамы. Одна из них, которой представили в этот вечер Монтэгю, признавала только жемчуг; у нее были: черные жемчужные серьги стоимостью в сорок тысяч долларов, нитка жемчуга в триста тысяч долларов, брошь розового жемчуга в пятьдесят тысяч и два ожерелья, по четверти миллиона долларов каждое!
В этом постоянном упоминании стоимости вещей было что-то весьма тривиальное и грубое, но Монтэгю пришел к выводу, что от этого никуда не уйдешь. Люди из общества делали вид, будто они выше расчетов, будто их интересует только красота и художественные достоинства самой вещи; но получалось так, что они постоянно говорили о ценах, которые платили другие, и каким-то образом другие в свою очередь всегда знали о том, сколько платили они. В то же время эти люди умели позаботиться, чтобы публика и газеты были поставлены в известность и о ценах, которые они платили, и вообще обо всем, что они делали. Например, в программах оперного театра печатался план лож с именами владельцев их абонементов, так что любой мог узнать, кто в какой ложе сидит. Эти блестящие дамы в великолепных туалетах на виду у любопытной толпы выходили из своих экипажей, а кругом сновали сыщики. И сердце каждой из этих дам трепетало при мысли о том чудном мгновении, когда она войдет в свою ложу и все присутствующие, забыв и думать о музыке, устремят на нее свои взоры, а она откинет меха и ослепит их блеском своего великолепия.
Среди драгоценностей этих дам были и фамильные сокровища, известные в Нью-Йорке не одному поколению; в этих случаях стало входить в обычай оставлять настоящие драгоценности в сейфе, а надевать их точную имитацию из поддельных камней. Те дома, где хранились сокровища, никогда не оставались без присмотра сыщиков, а нередко бывало и так, что сыщики находились под контролем других сыщиков; и все же время от времени в газетах появлялись сенсационные сообщения об ограблениях. Тогда всех несчастных, на кого падало подозрение, без разбора хватала полиция, и их подвергали так называемым допросам «третьей степени», состоявшим из пыток, не менее изощренных и жестоких, чем во времена испанской инквизиции. Некоторые известные актрисы, учитывая, что эти сенсационные происшествия служили могучим средством рекламы, также обзаводились драгоценностями и время от времени сами инсценировали похищение своих драгоценностей.
В этот вечер, вернувшись домой, Монтэгю решил поговорить со своей кузиной о Чарли Картере. И тут обнаружилась несколько своеобразная ситуация.
Элис, оказывается, уже знала, что Чарли «испорченный» человек; но теперь он почувствовал отвращение к этой жизни и был очень несчастлив: ее красота и невинность тронули его, ему стало стыдно за самого себя, и он намеком признался ей, что был до сих пор во власти пагубных страстей...
Монтэгю начал понимать, как удавалось Чарли казаться интересной, привлекательной личностью: для этого он драпировался в мантию таинственной романтики.
— Он говорит, что я совсем не такая, как все девушки, которых он знал до сих пор,— сказала Элис.
Услышав столь «оригинальное» признание, Монтэгю не мог скрыть улыбки.
Элис отнюдь не была влюблена в Чарли и далека от мысли об этом; она сказала, что не будет принимать его приглашений и не будет оставаться с ним наедине. Она только не знала, каким образом возможно избежать встреч с ним в тех домах, куда их обоих приглашали. И с этим Монтэгю пришлось примириться.
Генерал Прентис любезно расспрашивал Монтэгю, какие достопримечательности Нью-Йорка он успел осмотреть и как его дела. Он добавил, что беседовал о нем с судьей Эллисом; когда Монтэгю будет готов приступить к работе, судья, вероятно, сможет что-нибудь ему предложить. Он одобрил намерение Монтэгю сначала как следует оглядеться и обещал ввести его в два-три наиболее видных клуба.
Монтэгю принял все это во внимание, но сейчас ему было не до этого. Приближался день Благодарения [12], а с ним и бесконечные празднества в загородных особняках. Берти Стыовесент затевал поездку в свой Адирондекский лагерь и пригласил с собой человек двадцать молодежи, в том числе молодых Монтэгю. Это была еще одна особенность столичной жизни, с которой стоило познакомиться.
Сначала все отправились в театр. Берти взял четыре ложи, и все собрались там приблизительно через час после начала спектакля. Да в сущности это и не имело большого значения, потому что пьеса, подобно опере, состояла из кое-как связанных между собою куплетов и танцев, а ее фабула служила только предлогом для показа причудливых декораций и костюмов. Из театра поехали прямо на Центральный вокзал, и около двенадцати часов ночи собственный поезд Берти с гостями тронулся в путь.
Поезд этот представлял собою превосходно оборудованный отель на колесах. Здесь были багажный вагон и вагон-ресторан, кухня и гостиная, вагон-библиотека и спальный вагон, оборудованный не обычным образом, а с комфортабельными спальнями, снабженными водопроводом и электричеством и обставленными мебелью из белого акажу. Вагоны были стальные и с автоматической вентиляцией; а обстановка их отличалась характерной для Берти Стьювесента подчеркнутой роскошью. В библиотеке весь пол покрывали плюшевые ковры, мебель была из южноамериканского красного дерева, а стены расписаны знаменитыми художниками, которые годами работали над ними.
Повар и слуги Берти не дремали, и в столовой был уже сервирован для прибывших ужин; сидя за столом, они могли наслаждаться видом залитого лунным светом Гудзона.
Утром прибыли к месту назначения — па маленькую станцию среди поросших лесом гор. Поезд был переведен на запасный путь; все не спеша позавтракали, а потом, закутавшись в меха, вышли на свежий воздух, насыщенный ароматом соснового леса. Земля была покрыта снегом, у станции их ожидали восемь больших саней. День выдался морозный, солнечный, целых три часа ехали по изумительно красивой горной местности. Большая часть пути пролегала через владения Берти; дорога также принадлежала ему, о чем свидетельствовали крупные надписи, встречающиеся чуть ли не каждые сто ярдов.