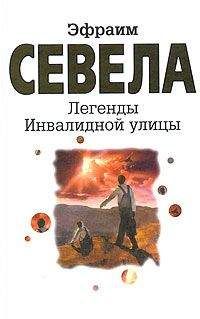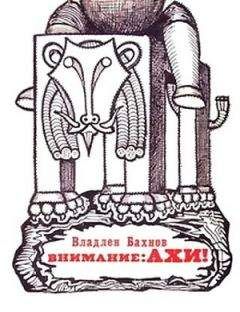Затем я повернулась к нему лицом.
Он нисколько не смутился. Все же врач. Но оглядел меня мужским оценивающим взглядом.
– Ты прекрасно сложена, дитя. Кому-то доставишь большую радость.
– Почему кому-то? – спросила я. – А вы не в счет?
– Ну, я уже получаю свою порцию радости, намыливая тебя.
– Значит, я для вас представляю интерес только как объект для намыливания?
– А какой еще интерес ты можешь вызывать? – рассмеялся Б.С. и шлепнул меня мочалкой между ног, а я бедрами зажала его руку.
– Вы что там в ванной делаете? – послышался из прихожей удивленный голос мамы, вернувшейся домой с работы.
Б.С. с руками, полными мыльной пены, высунулся из ванной.
– Да вот твой ребенок… до того разленился, что меня отрывает от занятий… спинку ей потереть.
– Матери не могла дождаться? – заглянула в ванную мама и, ничего не поняв, стала мне долго и нудно читать нравоучение о том, что нельзя по пустякам отвлекать Б.С. от занятий – у него скоро экзамены.
Б.С., стоя в коридоре, из-за ее спины подмигнул мне, как заговорщик. Я в ответ подмигнула ему.
– Не кривляйся, – сказала мама и, намылив мочалку, во второй раз стала усердно натирать мое бедное тело.
Взрослые не понимают детей.
Ни капельки!
Господи, какие они, эти взрослые, тупые люди. Иногда даже просто не верится. Неужели нельзя понять, что мы, дети, такие же живые люди, как они, что мы – не куклы, с которыми можно поиграть и бросить. Сюсюкают, ломаются перед нами, как перед дурачками, а я смотрю на это кривлянье и выть хочется.
Я заговорила поздно. В нашей семье даже была паника. Но когда заговорила, они не обрадовались.
Хорошо помню, как это произошло. Меня, крошку, в то лето подкинули к дедушке Леве и бабушке Любе. Мама с папой уехали на Север. Где ездят на собаках и едят мясо оленей. Папа должен был там, в тундре, читать лекции. А мама не хотела отпускать его одного и увязалась за ним. Потом они много чудного рассказывали об этой поездке. Папа читал лекции местным жителям, одетым в звериные шкуры и абсолютно не знакомым с правилами приличного поведения. Во время лекции они сидели не на скамьях, а на корточках. В меховых штанах у них сзади вырезана дырка, и, пока мой папа распинался перед ними, они себе преспокойно какали. Под себя. На пол.
Мои дедушки и бабушки чуть не схватили инсульт от хохота, когда папа, вернувшись, рассказывал об этом.
Но это было потом.
А сначала я провела все лето на Черном море. В какой-то маленькой деревне. Там бабушка с дедушкой сняли комнату. Там я и заговорила. Научившись всем словам у деревенских мальчишек. Можете себе представить, какой это был язык! Дедушка с бабушкой обалдели, услышав, как я заговорила, со страхом ждали приезда моих родителей, которые им поручили свое дитя, еще не научившееся говорить.
Я заговорила на какой-то смеси русского с украинским. И, в основном, ругательствами. Сколько их потом из меня ни выбивали, кое-какие выражения помню до сих пор.
Мой отец приехал за мной. Мы завтракали с дедом на веранде. Он кормил меня с ложечки, проталкивая пищу прямо в глотку.
Папа с чемоданом в руке появился на веранде. Я очень соскучилась и поэтому сначала лишилась дара речи.
А дедушка стал ломать комедию, сюсюкать со мной, как с маленькой:
– Посмотри,, деточка, кто к нам приехал? Кто этот дядя?
Как с дурочкой. Я молчу. Чуть не плачу.
– Олечка, – не унимается дед. – Кто этот дядя? Угадай!
И тогда я сказала. Очень удивив моего отца, который впервые услышал меня говорящей.
– Дедушка! – строго сказала я. – Иди в жопу!
И, соскользнув с его колен, подошла к остолбеневшему отцу, обняла его за колено и сказала, как взрослая взрослому:
– Здравствуй, папа.
Однажды я чуть не погибла из-за взрослых. В прямом смысле этого слова. И не было бы на свете девочки Олечки. С носиком, как кнопка, со стройными ножками. И с тысячью неразрешимых вопросов в беспокойной башке.
Меня спасло от смерти чудо. Кто? Догадайтесь.
Собачка, Бобик – кудлатая дворняжка дедушки Семы. Нет, она не вытащила меня, тонущую, из быстрой реки. И не вынесла, осторожно держа в зубах за воротник платья, из горящего дома. Она спасла меня самым необычным и нелепым способом. Впрочем, чего другого можно было ожидать от собаки, которая, чуть недогляди, обязательно чего-нибудь учудит.
А было все действительно трагично. Я была раздавлена тупостью взрослых до того, что решила покончить жизнь самоубийством. Выпрыгнуть с балкона четвертого этажа и разбиться вдребезги об асфальт. Чтоб ничего собрать не могли. И чтоб даже не над кем было проливать слезы моим невольным убийцам. Невольным? Конечно. Ибо взрослые по своей ограниченности не ведают, что творят.
Подумать только, до чего нас за людей не принимают. При нас, живых и очень даже все понимающих, вслух обсуждают наши достоинства и недостатки, как при неодушевленных предметах. Лезут сапогами в душу, ковыряются там, как им вздумается. Как будто мы совершенно бесчувственные, у нас нет нервов, нет самолюбия и мы ни на что не способны реагировать, как при глубоком наркозе.
Случилось это, конечно, у дедушки Семы и бабушки Симы. А у других не могло случиться? А у мамы с папой? Еще как могло. Хоть они, как люди интеллигентные, уверены, что понимают детскую душу и, вообще, большие педагоги. Господи, какая самоуверенность!
Я жила у них уже несколько дней, чтобы дать маме с папой немножко отдохнуть от меня. Они так часто отдыхают от меня, – что невольно хочется спросить их:
– Зачем вы рожали ребенка, если все время стараетесь избавиться от него?
Я их не просила рожать меня. Это они сделали сами. Ну, а раз любите на саночках кататься, то любите и саночки возить. Я этого, конечно, не сказала. Не хочется хамить. Меня уж и так считают чудовищем.
Значит, гостила я у деда с бабкой, которые во мне души не чают. Объедалась вкусными вещами, ездила в свою школу на метро: отсюда мне без пересадки. Даже удобнее, чем из дома. А спать меня укладывали в гостиной на диване, приставив сбоку стулья, чтоб я не свалилась во сне на пол. В ногах у меня, свернувшись комочком, спал тепленький песик Бобик. Тот самый, который спас мне жизнь.
Я так часто здесь живу, что завела себе приятеля. Из квартиры напротив. По имени Дима. Ему столько же лет, сколько и мне. Но учится он не в английской школе, как я, а в простой,
– обычной. Потому что он из простой семьи. Но очень толковый и симпатичный мальчик. Лицо замкнутое. Я бы даже сказала – мужественное, как у взрослого, а глаза добрые и беззащитные.
Я влюбилась в мальчика Диму. Это была, возможно, моя первая настоящая любовь. С ним я не была высокомерной. А, наоборот, затихала и краснела, когда он на меня взглядывал. И он краснел. Взаимная любовь. Мы очень мало разговаривали, а все больше смотрели друг на друга.
– Ишь ты! – удивлялся дедушка Сема. – Совсем изменилась девочка. Мальчик на нее хорошо влияет. Ты, Димочка, чаще к нам заходи.
И чтоб мальчика к нам пускали охотней, дедушка с бабушкой пригласили и его маму в гости, папы у Димы не было, она – мать-одиночка.
Был устроен ужин. Мы с Димой тоже сидели за столом. И стеснялись смотреть друг на друга, потому что взрослые могли заметить и все испортить своим вмешательством.
Но и ничего не заметив, они все испортили.
Стали говорить о детях. Каждый о своем. Обо мне и Диме. Сначала хвастались хорошими качествами. Потом стали делиться своими заботами. При нас. Живых. У которых есть уши. А в жилах течет влюбленная кровь.
Бабушка Сима раскрыла нашу семейную тайну, что у меня глисты.
Я прилипла к стулу. Как воспринял эту новость Дима, не знаю. Не смогла поднять на него глаза.
– Но мы приняли все меры, – успокаивала Димину маму бабушка. – Теперь все позади. Недавно вышел последний глист. Огромный, как змея. И извивается. Боже мой, как это умещалось в таком крохотном теле?
Взрослые заахали, а мы с Димой сидели, как пригвожденные. И мне казалось, что сердце мое лопнет.
Но это было лишь начало. Главная пытка была впереди. Взрослые ведь, если заведут, их не остановишь.
Димина мама решила не остаться в долгу и поведать нам нечто о своем сыне. Господи! Что она понесла! Как может язык повернуться рассказать о своем сыне такое. Да еще при мне, влюбленной в него.
– А мой прохвост, – так она без всякой злости назвала своего сына, – по ночам такие дела выделывает, что ему приходится руки к кровати привязывать.
Она еще ничего страшного не сказала, но я уже похолодела от ужаса. Я кожей почувствовала, что она скажет о Диме жуткую гадость.
Дима по ночам теребил под одеялом свою пипку и доводил себя этим до истерики. Это называется онанизм.
– Такой маленький, – выпучив глаза, искала сочувствия у моих родных его мать, – совсем еще клоп! А чем занимается. Он с виду такой тихий! Негодник!
У Димы началась истерика. Он бросился к маме и стал бить ее своими маленькими кулачками. Часто-часто. И только вскрикивал: