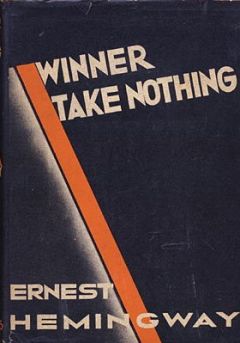— Я не женат, — сказал Каэтано.
— Он говорит — какую-нибудь женщину, какого-нибудь ребенка.
— Да разве он сумасшедший? — сказал Каэтано.
— Он говорит, что вы должны назвать его, — закончил мистер Фрэзер.
— Благодарю вас, — сказал Каэтано. — Вы прекрасный переводчик. Я говорю по-английски, хотя и плохо. Но понимаю свободно. Где это вы сломали себе ногу?
— Упал с лошади.
— Вот не повезло-то. Мне очень жаль вас. Сильно болит?
— Теперь уже нет. Сначала болело.
— Послушайте, amigo, — начал Каэтано. — Я очень слаб. Извините меня. Кроме того, у меня сильные боли, очень сильные. Возможно, я умру. Пожалуйста, уберите отсюда этого полисмена. Я очень устал.
Он сделал движение, будто хотел перевернуться на бок, потом затих.
— Я передал ему в точности все, что вы сказали, и он просил передать вам, что, право же, он не знает, кто стрелял в него, и что он очень слаб, и просит вас допросить его после, — сказал мистер Фрэзер.
— А может быть, после он умрет.
— Очень возможно.
— Вот потому-то я и хочу допросить его сейчас.
— Я вам говорю, кто-то стрелял сзади, — сказал переводчик.
— А, да ну вас к черту! — сказал агент и сунул записную книжку в карман.
Выйдя в коридор, агент остановился с переводчиком возле мистера Фрэзера, сидевшего в кресле на колесах.
— Вы тоже, вероятно, думаете, что кто-то стрелял в него сзади?
— Да, — сказал Фрэзер. — Кто-то стрелял в него сзади. А почему вас это интересует?
— Не сердитесь, — сказал агент. — Хотел бы я говорить по-испански.
— А что вам мешает выучиться?
— Не нужно сердиться. Меня ничуть не забавляет задавать эти вопросы испанцу. Если бы я сам говорил по-испански— тогда другое дело.
— Зачем вам говорить по-испански? — сказал переводчик. — Вы можете на меня положиться.
— А ну вас к черту! — сказал агент. — До. свиданья! Я еще приду и увижусь с вами.
— Пожалуйста. Я всегда в своей палате.
— Вам, кажется, лучше? Не повезло вам. Чертовски не повезло.
— Теперь-то уж лучше. Кость срастается.
— Да, но это очень надолго. Надолго, надолго.
— Не давайте никому стрелять в вас сзади.
— Верно, — сказал он. — Верно. Ну, я очень рад, что вы не сердитесь.
— До свиданья! — сказал мистер Фрэзер.
Мистер Фрэзер не видел Каэтано очень долго, но каждое утро сестра Цецилия приносила известия о нем.
— Он совсем не жалуется, — говорила она, — а ему очень плохо. У него перитонит, и думают, что он не выживет. Бедняга Каэтано! — говорила она. — У него такие красивые руки и такое тонкое лицо, и он никогда не жалуется. Запах сейчас действительно ужасный. Он показывает иногда себе на нос одним пальцем и улыбается и качает головой, — говорила она. — Ему неприятен запах. Он смущается, — говорила сестра Цецилия. — О, он такой симпатичный больной! Он всегда улыбается. Он отказался исповедоваться, но обещал помолиться, и ни один мексиканец не пришел навестить его с тех пор, как его привезли. Русский выписывается в конце недели. Вот русского мне совсем не жалко, — говорила сестра Цецилия. — Бедняга, он тоже мучился. Пуля — она грязная, и рана была заражена, но он так кричал. И потом мне всегда больше нравятся нехорошие. Этот Каэтано — он мошенник. Он и в самом деле мошенник, настоящий мошенник. Он так изнежен, такого хрупкого сложения и никогда ничего не делал руками. Он не сборщик свеклы. Руки у него такие мягкие, и ни одной мозоли. Я знаю, что он нехороший. Я пойду вниз и помолюсь за него. Бедный Каэтано, ему очень худо, а он даже не стонет. За что они стреляли в него? Бедный Каэтано! Я пойду вниз и помолюсь за него.
Она пошла вниз и помолилась за него.
В этой больнице радио работало хорошо, только когда наступал вечер. Говорили, это оттого, что в горах слишком много руды или еще чего-то, но во всяком случае оно работало совсем плохо, пока на улице не начинало темнеть; но всю ночь оно работало прекрасно, и когда одна станция прекращала работу, можно было передвигаться дальше на запад и ловить другую. Последней был Сиэттл, в штате Вашингтон, и благодаря разнице во времени, когда кончали передачу в четыре часа утра, в больнице было уже пять часов утра, а в шесть можно было поймать утреннюю музыкальную передачу из Миннеаполиса. Это тоже возможно было благодаря разнице во времени, и мистер Фрэзер любил думать о музыкантах, приходящих утром в студию, и представлять себе, как они выходят из трамвая на рассвете, неся свои инструменты. Может быть, этого и не было и они оставляли инструменты там, где играли, но он всегда представлял их себе с инструментами. Он никогда не бывал в Миннеаполисе и думал, что, может быть, никогда не попадет туда, но видел ясно, как выглядит город ранним утром.
Из окна больницы виднелось поле с торчащими из-под снега стеблями и голый глинистый склон. Как-то утром доктор хотел показать мистеру Фрэзеру двух фазанов, которые ходили по снегу, и когда он двигал койку к окну, со спинки упала лампа и ударила мистера Фрэзера по голове. Сейчас это звучит совсем не смешно, но тогда это было очень смешно. Все смотрели в окно, и доктор, прекрасный доктор, показывал на фазанов и подвигал койку к окну, и потом, совсем как в фарсе, мистера Фрэзера стукнуло свинцовой подставкой от лампы прямо по голове. Это произошло как бы вразрез с лечением, со всем тем, зачем люди ложатся в больницу, и всем это показалось ужасно смешным, как анекдот о мистере Фрэзере и докторе. В больнице все много проще, даже анекдоты.
Из другого окна, если повернуть койку, был виден город с облаком дыма над ним, и Доусон-Маунтэнз, уже покрытые снегом и оттого похожие на настоящие горы. Таковы были два вида, доступные с тех пор, как стало очевидным, что сидеть в кресле мистеру Фрэзеру еще рано. Да по правде сказать, в больнице лучше уж лежать в постели; намного лучше, располагая временем, в палате с кондиционированным воздухом, любоваться всего двумя видами, нежели многими, если видишь их наспех из жарких, пустых палат, ожидающих новых больных или только что освободившихся, куда вас вкатывают в кресле всего на несколько минут. Когда долго лежишь в одной палате, вид, каков бы он ни был, приобретает большую ценность и значительность, и не хочется его менять, ни даже повертываться к нему другим боком. Точно так же радио: нравятся определенные вещи, и радуешься им, и отвергаешь новые. В ту зиму лучшие песенки были: «Спой мне простую песню», «Девушка-певунья», «Маленькие небылицы». Ничто так не успокаивало, казалось мистеру Фрэзеру. «Милая Бетти» тоже была ничего, но мистеру Фрэзеру все лезли в голову другие слова, до того непристойные, что никому их и не передашь; так что в конце концов он бросил ее слушать, и когда начинали ее передавать, переключал радио на футбол.
Около девяти часов утра включали рентгеновский аппарат, и тогда слушать радио, которое к этому времени ограничивалось только одной станцией в Хэйли, становилось совсем невозможно. Многие жители Хэйли, имевшие приемники, возмущались, что больничный рентген мешает им по утрам слушать радио, но так ничего и не добились, хотя многие считали, что больница могла бы пользоваться рентгеном в другие часы, когда люди не слушают радио.
Как раз, когда пришлось выключить радио, вошла сестра Цецилия.
— Как Каэтано, сестра Цецилия? — спросил мистер Фрэзер.
— О, он очень плох.
— Он без памяти?
— Нет, но боюсь, что умрет.
— А как вы?
— Я очень беспокоюсь за него, и знаете, никто не пришел навестить его. Он может умереть, как собака, а эти мексиканцы и глазом не моргнут. Ужасные люди!
— Хотите прийти сегодня вечером послушать передачу со стадиона?
— О нет, — сказала она. — Я слишком волнуюсь. Я буду молиться в часовне.
— Я думаю, что слышно будет хорошо, — сказал мистер Фрэзер. — Будут играть на побережье, и благодаря разнице во времени это будет довольно поздно, так что мы услышим как следует.
— О нет, я не могу. В международную встречу я чуть было не умерла. Когда вышла команда «Атлеты», я прямо-таки в полный голос читала молитвы: «О боже, помоги им попасть в цель! О боже, ну, дай же ему забить! О боже, дай им выиграть!» А когда третья игра подходила к концу, тут уж я совсем не выдержала. «О боже, пусть он пробьет хорошенько! О боже, дай ему силы». А потом настал черед бить «Кардиналам», это был сплошной ужас. «О боже, не дай ему попасть! О боже, избави ты нас от их ударов. О боже, ну пускай они промахнутся!» А это состязание еще хуже. Это команда «Notre Dame» — «Пресвятой девы»… Нет, я пойду в часовню. Они играют за пресвятую деву. За «Пресвятую деву»! Написали бы вы что-нибудь для пресвятой девы. Ведь вы можете. Вы и сами знаете, что можете, мистер Фрэзер.
— Я не знаю о ней ничего, что мог бы написать. Уже почти все написано, — сказал мистер Фрэзер. — Вам не понравится, как я пишу. Ей тоже не понравится.