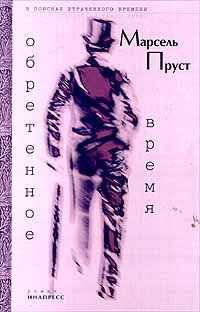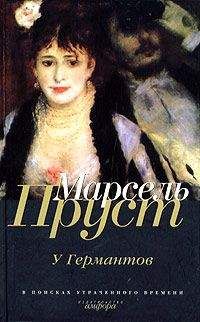Вернемся к г-ну де Шарлю: «Дело в том, — ответил он, — что „мочь“ в статьях Норпуа стало формой будущего времени, то есть, обозначением желаний Норпуа, как и, впрочем, желаний каждого из нас, — добавил он, быть может, не вполне искренне. — Если бы этот глагол не указывал на будущее время, то, говоря по строгости, следовало бы думать, что он употребляется применительно к какой-нибудь стране в своем изначальном смысле, — например, всякий раз, как Норпуа говорит: „Америка не смогла бы остаться безразличной к этим постоянным нарушениям права“, „двуглавая монархия не смогла бы не прийти к раскаянию“, — ясно, что подобные фразы отражают желания Норпуа (как и мои, как и ваши), но, в конце концов, вопреки всему этот глагол может еще сохранять и свое старое значение, и страна так же может „не мочь“, Америка может „не мочь“, монархия „двуглавая“[88] может «не мочь» (несмотря на извечное «непонимание психологии»). Но всякие колебания отпадают, когда Норпуа пишет: «эти систематические опустошения не могли бы не убедить нейтралов», «Поозерье не могло бы не упасть в короткий срок в руки союзников», «результаты этих нейтралистских выборов не смогли бы отразить мнения подавляющего большинства». Но ведь факт, что эти «опустошения», «районы» и «результаты» — предметы неодушевленные, и «не мочь» они не способны. Благодаря этой формуле Норпуа попросту обращается к нейтралам с предписанием (которому, с сожалением должен признать, они вряд ли последуют) выйти из нейтралитета или Поозерью больше не принадлежать «бошам» (г-н де Шарлю произносил слово «бош» с той же отвагой, как некогда в трамвае заводил речь о мужчинах, испытывающих тяготение к представителям своего пола). К тому же, вы заметили, с каким лукавством, уже с 1914-го года, Норпуа начинает свои статьи, обращенные к нейтралам? Первым делом он возглашает, что, конечно же, не должно вмешиваться в политику Италии (или Болгарии, или Румынии и т. д.) Они сами должны принять независимое решение, отвечающее исключительно их национальным интересам, следует ли им выйти из нейтралитета. Но если эти первые сентенции статьи (то, что некогда называлось вступлением) столь замечательно беспристрастны, то дальше этого на порядок меньше. «Тем не менее, — продолжает Норпуа, — ясно, что одним с боями достанутся определенные материальные преимущества — и это будут нации, ставшие на стороне Права и Справедливости. Народам, следовавшим политике наименьшего усилия, не поставившим свою шпагу на службу союзникам, не следует ожидать, что они будут вознаграждены союзниками, что им пожалуют территории, откуда веками раздавался стон их угнетенных братьев». Теперь, сделав первый шаг — посоветовав вступить в войну, Норпуа уже не останавливается ни перед чем, и его указания касаются уже не самого вопроса, а времени вступления; они все менее и менее прикрыты. «Конечно, — продолжает он, изображая, как он сам сказал бы, доброго апостола», — самих Италии и Румынии дело — определить час и форму, в которой они вступят в войну. Им надо, однако, принять во внимание, что, слишком затягивая, они рискуют упустить время. Уже копыта русских кавалеристов заставили содрогнуться Германию, зашедшуюся в невыразимом ужасе. И совершенно ясно, что народы, пришедшие «под аминь», что уже не за горами, не будут иметь тех же прав на вознаграждение, которое они могут еще, поспешив… и т. п.». Это как в театре, когда говорят: «Последние билеты вот-вот будут проданы. К сведению неторопливых». Рассуждение тем паче глупое, что он его повторяет раз в полгода, время от времени обращаясь к Румынии: «Пришел для Румынии час узнать — хочет она или нет реализовать свои национальные чаяния. Пусть она подождет еще, и будет уже слишком поздно». На протяжении трех лет, что он это говорит, «слишком поздно» не только не наступило, но не уменьшается и число таких обращений к Румынии. Так же он понукает Францию и проч. к интервенции в Грецию в качестве протектирующих сил, потому что договор, связывавший Грецию с Сербией, она не сдержала. Ну, по совести говоря, не воюй сейчас Франция, и не будь ей нужна помощь или благожелательный нейтралитет Греции, разве возникла бы сама мысль об интервенции в качестве «протектората», или хотя бы какие-нибудь негативные чувства из-за того, что Греция не выполнила своих обязательств по отношению к Сербии, — не умолкает ли он, как только речь заходит о столь же очевидных нарушениях со стороны Румынии и Италии, не исполнивших — небезосновательно, надо полагать, — как и Греция, своих обязательств (не столь жестких и требовательных, как говорят) по отношению к Германии? Истина в том, что эти люди следят за миром через призму своей газеты, да и что им еще остается, если сами они лично не знакомы с людьми, о которых речь, и если сами они в этих событиях не участвуют. Во времена этого дела[89], которое, помнится, вас странным образом увлекло, — в ту эпоху, о которой теперь все говорят, что мы отделены от нее веками, да и наши военные философы подтверждают, что все связи с прошлым разорваны, — я был просто шокирован, когда узнал, что мои родственники охотно принимают старых антиклерикальных коммунаров, — быть может, представленных их любимой газетой антидрейфусарами, — и поносят благородного генерала: католика, но ревизиониста. И так же меня шокирует, когда я узнаю, какое отвращение питают французы к императору Францу-Иосифу. Как они раньше его боготворили! И небезосновательно — мне ли об этом не знать! я хорошо с ним знаком, а он всегда рад принять меня по-родственному. О! я не писал ему уже всю войну, — воскликнул он с таким видом, будто смело сознается в ошибке, за которую (и он это прекрасно знал) никто бы его укорять не стал. — Хотя нет, в первый год, и только раз. Что поделаешь, я по-прежнему его уважаю, но на фронте много моих молодых родственников, они несомненно сочли бы, что постыдно поддерживать переписку с главой воюющей против нас нации. Что поделаешь! упрекай меня, кто хочет, — воскликнул он, будто отважно отвергая мои упреки, — но я не хочу, чтобы в настоящий момент в Вену пришло письмо, подписанное именем де Шарлю. Если б я и решился пожурить старого императора, то только за одно, что монарх его ранга, глава одного из самых старых и именитых европейских домов, позволил себя провести этому дворянчишке, — хотя и довольно смышленому, но в сущности обыкновенному выскочке Вильгельму Гогенцоллерну. Подобные странности меня немало шокируют в этой войне». Но поскольку, стоило ему вернуться к аристократической точке зрения, преобладавшей у него, по сути, над любой другой, г-н де Шарлю впадал в крайнее ребячество, тем же тоном, каким он говорил бы о Марне или Вердене, он заявил, что будущим историкам этой войны не следует упускать из виду кое-что чрезвычайно любопытное и важное. «Так, в частности, — сказал он, — по всеобщему невежеству никто так и не удосужился заметить примечательного факта: несмотря ни на что великий магистр Мальтийского ордена, а он чистый бош, по-прежнему пребывает в Риме, где, как Великий магистр, он пользуется привилегией экстратерриториальности. Это любопытно!» — воскликнул он, словно говоря: «Видите, встретившись со мной, вы не потеряли вечер даром». Я поблагодарил его, и на лице его проступила скромность человека, не требующего оплаты. «Так что это я вам говорил? Ах да, что с подачи газет французы теперь ненавидят Франца-Иосифа. По поводу Константина Греческого и царя Болгарии[90] публика колеблется между отвращением и симпатией, потому что поочередно пишут то о том, что они на стороне Антанты, то о том, что они на стороне «центральных империй», как сказал бы Бришо. И Бришо постоянно повторяет нам, что «час Венизелоса[91] вот-вот пробьет». Я не сомневаюсь, что г-н Венизелос — это замечательный политик, но кто знает, совпадают ли желания греков с желаниями г-на Венизелоса? Он хотел бы, твердят нам, чтобы Греция сдержала свои обязательства по отношению к Сербии. Еще следовало бы узнать, каковы были ее обязательства, и были ли они более строгими, чем те, которые Италия и Румыния сочли возможным нарушить. Нас заботит, каким образом Греция соблюдает свои договоры и свою конституцию, хотя это, несомненно, не привлекло бы нашего внимания, если б не было в наших интересах. Не будь войны, разве заметили бы государства-«гаранты» роспуск Палат[92]? Мне становится ясно, что греческого короля лишают опор, чтобы выставить его вон или взять под арест — когда армия уже не придет ему на помощь. Я говорил вам, что публика судит о короле Греции и короле Болгарии только по газетам. Да и что им остается, если они с ними незнакомы? Но я с ними многократно встречался, я хорошо знал Константина Греческого еще диадохом[93] — он был просто прелесть. Я всегда думал, что император Николай питал к нему сильное чувство. В благом смысле, разумеется. Принцесса Христина об этом распространялась открыто, но она злючка. Что до царя Болгарии, то он просто плут, это у него на лбу написано, но очень умен — замечательный человек. Он меня очень любил».