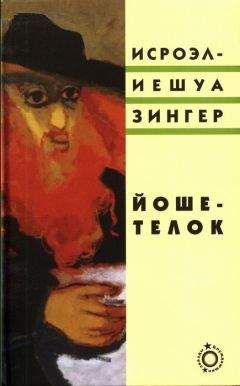«Лишь дурак может полагать, — смеялся другой образ, — что самоистязаниями и постом можно приблизиться к цельности. Глупцы, они не знают, что помыслы, думы людские, в тысячу раз сильнее самого греха и размышлять о грехе, которого ты не совершал, намного хуже, чем совершить грех, ибо грех непродолжителен, а мысль постоянна. Ведь если человек поддался дурному побуждению и утолил свою жажду, то в нем уже больше нет греха, он освободился, и голова его чиста, рассудок ясен, и он может понимать высшие вещи. Но если человек постится, а думает о еде, если человек отдаляется от похоти и женщин, а думает о разврате, то помыслы его темны, и рассудок замутнен, и он не может служить Богу, и погружается в дурные мысли и уныние, подобное греху. Были праведники, которые хотели принести еврейскому народу освобождение греховными поступками, ведь Мессия может прийти лишь тогда, когда все будут праведниками или все — грешниками[98]. И поскольку сам грех — тоже от Бога, и бесы, нечистая сила, являются частью Божественной силы, то Бог есть и в грехе, ибо Он — во всем, и сказано в Писании: „Я пребуду с вами в ваших грехах…“ И как нельзя сделать черное белым, так нельзя до конца отмыть запятнанное, поэтому очиститься от греха можно, лишь объедаясь им сверх меры и выплевывая от пресыщения, словно обжора, который наедается до рвоты, — и таким путем достичь Божественного».
Он бродил без цели, не зная, что с собой поделать.
Бывали дни, когда он начинал истязать свое тело. Не брал в рот мяса, даже в субботу. В самые зябкие дни окунался в холодную воду в микве. К постели он даже не подходил, спал на голом полу. Не переодевался в чистую рубашку к субботе.
Бывали дни, когда он не молился, не накладывал на голову тфилин, потому что не хотел осквернять своей грешной головой тфилин шел-рош, боялся вымолвить еврейское слово своими нечистыми губами. «Иди, погрязни в пороке, — говорили ему голоса, — все равно к чистоте ты уже больше не вернешься. Лги, предавайся разврату, ибо сказано в Писании: „Пребуду в ваших грехах“».
Две силы боролись в нем; побеждала то одна, то другая. А порой обе силы, святая и греховная, властвовали над ним наравне, и он сам уже не знал, кто он такой и что с ним. Посреди молитвы, в минуту величайшего раскаяния, он вдруг снимал с головы тфилин, уходил за город и быстрыми шагами углублялся в поля, в леса. По дороге он разговаривал сам с собой. Останавливался у реки, где полураздетые бабы колотили белье, смотрел на их голые красные ноги. Задерживался взглядом на крестах деревенской церкви, и дурные мысли овладевали им.
Ему часто казалось, будто он вовсе не Нохем, а кто-то другой, гилгул[99], принявший его, Нохема, обличье. А порой ему казалось, будто он — не один человек, а два, будто он раздвоился. От этой мысли Нохемче охватывал такой ужас, что он кричал себе:
— Ты кто? А?
Когда на Дни трепета ребе и его домочадцы вернулись с вод, они не узнали Нохемче.
Двор снова повеселел. Ребе привез много денег. И сыновья были довольны. Пришли хасиды, приживалы, гости. В бесмедреше люди пили медовуху, поздравляли друг друга. Все уже знали, что четвертая жена ребе беременна, что это будет мальчик — ребе еще раньше обмолвился.
— Будем здоровы, — желали они друг другу, — чтоб нам знать одни только радости.
Зять ребе никого не хотел видеть, ни с кем не разговаривал. Даже ни разу не приходил на хасидское застолье, что вел ребе. Двор стал побаиваться Нохемче.
— Эти его повадки, — шептались люди, — не поймешь их…
Сереле несколько месяцев молча страдала. Потом собралась с духом и попробовала поговорить с мужем, в надежде, что он станет ближе к ней. Тот ничего не ответил. Она пришла к отцу, плача.
— Папа, — всхлипывала она, — он совсем от меня отдалился.
Ребе, как всегда, прогнал ее шапкой.
— Иди, иди, дурочка, — бурчал он, — я с ним поговорю. Уж я ему покажу, пусть знает, что у нас в Нешаве так не делается. Ишь…
Ребе и впрямь собирался с ним поговорить, просто все время откладывал это на другой день. Он был очень занят: принимал множество хасидов, ездил собирать деньги на бесмедреш, и ему было не до того. Он решил отложить разговор на Пурим. Во время трапезы, когда евреи будут навеселе, думал ребе, он возьмет зятя за руку и начнет высмеивать.
«Я женился позже тебя, — скажет он ему, — а между тем я больший мастак, чем ты, рахмановский литвак…»
Но перед Пуримом в доме случилось несчастье.
В морозную, хотя уже шел месяц адар, ночь у Малкеле начались сильные боли, она не могла разродиться. Со двора ребе выехали сани, запряженные тройкой лошадей, — ребе вызвал старого врача из соседнего города в подмогу нешавскому доктору. Но когда тот приехал, было уже поздно.
Она умерла с ребенком в утробе.
Ребе сидел в углу комнаты и рыдал. Никто из детей не подходил к нему.
— Не надо было выходить за женоубийцу, — шушукались женщины.
Сутки напролет женщины пытались забрать у ребецн мертвого младенца, чтобы похоронить его отдельно, как велит обычай. Но та не отдавала ребенка. Ее, мертвую, окунали в микву, читали псалмы — ничего не помогало.
Тогда ей приказали.
— Малка, дочь Шифры, — обратился к покойнице раввинский суд из трех человек, — решением суда мы повелеваем тебе исторгнуть ребенка из чрева, как велит закон…
Покойница не отдала его. Она лежала, закусив губу, и глядела на всех широко открытыми глазами.
Город боялся: это был недобрый знак.
Среди ночи, когда все сидели вокруг покойницы, зажгли свечи и читали молитвы, Нохемче тихо отворил дверь своей учебной комнаты на втором этаже и исчез в ночи. Он пошел на голос, что звал его.
Вся его одежда осталась дома. Только тфилин пропали.
Ребе разослал гонцов по всем дорогам. В бесмедрешах и синагогах окрестных городов и местечек было велено оглашать имя Нохемче. О пропаже уведомили полицию. Даже напечатали объявление в гойских газетах. Но его так и не нашли. Гонцов послали в Рахмановку. Его там не было. Он пропал, словно мякина, которую уносит ветер.
Сереле принесла на кухню кирпич, раскалила его докрасна и произнесла над ним заговор:
— Камень, камень, как ты пылаешь, так пусть пылает по мне сердце моего Нохема. Вернись, вернись, вернись!
Он не вернулся.
После нескольких недель бесплодных поисков как на нешавском дворе, так и в Рахмановке, ребе послал за Сереле.
Он не предложил ей сесть, даже толком не посмотрел на нее.
— Все уже знают, что ты соломенная вдова, — сказал он, — ты не беременна?
Сереле расплакалась, но отец не стал ее утешать.
— Ну, иди, иди, — прогонял он дочь шапкой, — ну же!..
Она вернулась к себе в комнату. Сняла с головы атласную шаль и закуталась в серый платок, не шелковый, а шерстяной, как носят жены бедняков. Затем надела старое черное платье и сунула ноги в большие разношенные туфли.
Теперь Сереле выглядела как все брошенные жены, простые горожанки, чьи мужья-ремесленники уехали в Америку, оставив их соломенными вдовами.
На грязных дорогах, ведущих в Белосток, что в русской Польше, совсем рядом с галицийской границей[100], — оживленно и шумно.
В Бялогуре идет большая рождественская ярмарка, на которую съезжаются крестьяне из всех окрестных деревень. Богатые мужики в красных шубах едут с женами, детьми и быками, привязанными за рога позади телег. Бедные идут пешком, таща свиней на веревочках. Нищие с белыми бородами и в широких одеждах, похожие на святого Николая, чьи пряничные фигурки дарят детям, — бредут по дорогам, становясь на колени в снег перед каждой статуей святого, перед каждым обветшалым, скособоченным крестом. Еврейские лавочники, старьевщики, шляпники, сапожники, скорняки едут на бричках с женами и детьми. Молодые подмастерья, веселые и развязные парни, объезжают стороной пеших крестьян и богатые повозки. В каждой деревне, которую они проезжают, парни машут девкам, стоящим у плетня, и кричат:
— Руки-ноги за тебя отдам!..
Люди постарше стыдят их:
— Молодые люди, не приставайте к гойкам…
Но парни их не слушают.
— Эй! — кричат они глуповатому крестьянину, что несет продавать яйца в красном носовом платке, — купче яйле ве-йове, танё[101]…
Мужичок приставляет ладонь к уху в синих прожилках.
— Чего? — кричит он.
И подмастерья от удовольствия щиплют дочек своих мастеров.
Евреи-тряпичники с подстриженными бородами, чернявые, загорелые, похожие на цыган, едут в своих крытых холстиной кибитках, полных дешевых безделушек, посуды, свистулек, стеклянных бус, проволочных колечек, бисера — все это они меняют на тряпки и кости. Проезжая через очередную деревню, они звенят в колокольчики, дуют в свистульки — глиняных, выкрашенных золотой краской петушков — и горланят в рифму на идише, польском и русском вперемешку, на мелодию «Ты убедился воочию»[102]: