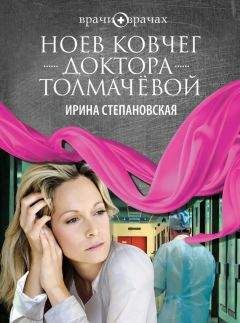— Холодно. И жутко. Прислуга рассказывала, что на дне под островом живет гигантский спрут.
— Крупнее щук здесь ничего нет, — сказал я, закутывая ее в простыню. — Тем более — спрутов. Их можно найти теперь только в Германии — с 1933 года. А вечером вода всегда производит жуткое впечатление.
— Если мы думаем, что есть спруты, они должны быть, — заявила Елена. — Мы не можем вообразить себе того, чего нет на свете.
— Прекрасное доказательство бытия Божия.
— А ты разве не веришь?
— В эту ночь я верю во все.
Она прижалась ко мне. Я отбросил влажную простыню и подал ей купальный халат.
— Как ты думаешь, это правда, что мы живем несколько раз? — спросила она.
— Да, — ответил я, не раздумывая.
— Слава богу! — она вздохнула. — Сейчас я уже не могу спорить об этом. Я устала и замерзла. Ведь это горное озеро.
Из ресторанчика в Ронко я, кроме вина, захватил еще бутылку «граппы» — виноградной водки наподобие «марка» во Франции. Она острая и крепкая и очень хороша в такие минуты. Я принес ее и дал Елене целый стакан. Она медленно выпила.
— Я не хочу уезжать отсюда, — сказала она.
— Завтра ты забудешь об этом, — ответил я. — Мы поедем в Париж. Это самый чудесный город на свете.
— Самый чудесный город — тот, где человек счастлив. Я выражаюсь общими фразами?
Я засмеялся.
— К черту заботы о стиле! Пусть общих фраз будет еще больше. Особенно таких. Тебе понравилась «граппа»? Хочешь еще?
Она кивнула. Я налил стакан и себе. Мы сидели на лужайке у столика из камня. Елену начало клонить ко сну. Я отнес ее в постель. Она заснула рядом со мной.
Ночь густела. В открытую дверь была видна лужайка, Она постепенно стала синей, потом серебристой от росы, Через час Елена проснулась. Она встала и пошла на кухню за водой. Вернулась она с письмом в руках. Оно пришло, пока мы были в Ронко.
— От Мартенса, — сказала она.
Она прочла и отложила письмо в сторону.
— Он знает, что ты здесь? — спросил я.
Она кивнула.
— Он сказал моим родственникам, что я по его совету поехала в Швейцарию показаться врачам и останусь недели на две.
— Он лечил тебя?
— Иногда.
— Что у тебя было?
— Ничего особенного, — сказала она и положила письмо в сумочку.
Она не дала мне его прочесть.
— А откуда у тебя, собственно говоря, этот шрам? — спросил я.
Тонкая белая линия пересекала ее живот. Я заметил ее еще раньше, но теперь она выступила яснее на загорелой коже.
— Маленькая операция. Так, пустяки.
— Какая операция?
— Милый, об этом не говорят. Знаешь, у женщин бывают иногда разные случаи.
Она погасила свет.
— Хорошо, что ты приехал и забрал меня, — прошептала она. — Я больше не могла бы выдержать. Люби меня! Люби, и ни о чем не спрашивай. Ни о чем. Никогда.
— Счастье… — медленно сказал Шварц. — Как оно сжимается, садится в воспоминании! Будто дешевая ткань после стирки. Сосчитать можно только несчастья.
Мы приехали в Париж и сняли квартиру в маленьком отеле на левом берегу Сены, на набережной Августинцев. Лифта в гостинице не было, лестницы были старые, кривые, комнатки маленькие. Зато из них видны были прилавки букинистов на набережной, Сена, Консьержери[14], собор Парижской богоматери.
У нас были паспорта, и мы чувствовали себя людьми.
Мы были людьми до сентября 1939 года. И до тех пор, собственно говоря, не имело значения, настоящие у нас паспорта или фальшивые. Правда, это оказалось далеко небезразличным, когда началась «странная война»[15].
— Чем ты жил здесь? — спросила меня Елена однажды в июле, дня через два после нашего приезда. — Ты мог работать?
— Конечно, нет. Я не смел даже существовать. Как же я мог получить разрешение на работу?
— Чем же ты жил тогда?
— Ей-богу, не знаю. Я перепробовал много профессии. Зарабатывал от случая к случаю. Во Франции, к счастью, не все распоряжения выполняются в точности. Иногда можно наняться на какую-нибудь мелкую работу исподтишка. Я грузил и разгружал ящики на рынке. Был кельнером, торговал сорочками, галстуками и воротничками. Преподавал немецкий. Иногда мне перепадало кое-что из комитета помощи эмигрантам. Продавал вещи, которые у меня еще были. Работал шофером. Писал заметки для швейцарских газет.
— А ты не мог снова стать журналистом?
— Нет. Для этого надо иметь вид на жительство и разрешение для работы. Моим последним занятием было надписывание адресов на конвертах. Потом явился Шварц, и началось апокрифическое бытие.
— Почему апокрифическое?
— Подставное, скрытое, анонимное — жить под эгидой мертвого.
— Мне бы хотелось, чтобы ты назвал это как-нибудь иначе, — сказала Елена.
— Можно назвать как угодно: двойная жизнь, жизнь в подполье, вторая жизнь. Скорее всего — вторая. Такой она мне кажется. Мы — будто потерпевшие кораблекрушение, лишенные всех воспоминаний. Нам не о чем сожалеть. Потому что воспоминание — это всегда еще и сожаление о хорошем, что отняло у нас время, и о плохом, что не удалось исправить.
Елена засмеялась:
— Кто же мы такие теперь? Мошенники, мертвые, духи?
— С точки зрения закона — туристы. Нам разрешено здесь жить, но не разрешено работать.
— Прекрасно, — сказала она. — Раз так, не будем работать. Поедем на остров Святого Людовика[16], сядем на скамеечку и будем греться на солнышке, а потом отправимся в кафе «Франс» и пообедаем за столиком на улице. Неплохая программа?
— Чудесная.
На том мы и порешили. Больше я не искал случайных заработков. С утра до утра мы были вместе и не разлучались неделями. Время шумело где-то в стороне, наполненное специальными выпусками газет, тревожными сообщениями, чрезвычайными заседаниями. Но мы его не чувствовали. Мы жили вне времени. Если все затоплено чувством, места для времени не остается, словно достигаешь другого берега, за его пределами. Вы в это не верите?
На лице Шварца опять появилось напряженное, отчаянное выражение, которое я уже видел несколько раз.
— Вы не верите в это? — повторил он.
Я устал, против воли мной начало овладевать нетерпение. Слушать рассказы о счастье было неинтересно, как и рассуждения Шварца о вечности.
— Не знаю, — машинально ответил я. — Может быть, это счастье, когда умираешь в таком состоянии. Тогда, время и его календарная обыденная мера теряют свою власть. Но если продолжаешь жить дальше, то несмотря ни на что это опять становится куском времени, чем-то преходящим. И тут уж ничего нельзя поделать.
— Но это не должно умирать! — сказал вдруг Шварц горячо. — Оно должно остановиться, окаменеть, как статуя из мрамора, не превращаясь в песочный домик, который каждый день осыпается и тает под порывами ветра! Иначе — что же будет с мертвыми, которых мы любим? Где же они могут пребывать, как не в нашем воспоминании? А если нет — то не становимся ли мы невольно убийцами? Неужели я должен смириться с тем, что время своим напильником сотрет то лицо, которое знаю я один? Да, я уверен, оно поблекнет и изменится во мне, если я не извлеку и не воздвигну его вне себя, — чтобы ложь моего живущего сознания не обвила и не уничтожила его, как плющ. Потому что иначе оно станет просто удобрением для паразитирующего времени и уцелеет один только плющ! Я знаю это! Потому-то я и должен спасти его прежде всего от себя самого, от пожирающего эгоизма воли к жизни, воли, которая стремится забыть его и уничтожить! Разве вы этого не понимаете?
— Понимаю, господин Шварц, — осторожно сказал я. — Ведь именно поэтому вы и говорите со мной, чтобы спасти его от самого себя.
Я рассердился на себя за то, что перед этим ответил ему так небрежно. Ведь человек, сидевший передо мной, был сумасшедшим — все равно — в логическом или поэтическом значении этого слова, и если я хотел узнать, как далеко он может зайти, — мне нужно было помнить о той боли, что его терзала.
— Если мне удастся, — сказал Шварц и запнулся. — Если мне удастся, то дело сделано, я спасу его от себя. Вы понимаете?
— Да, господин Шварц. Наша память — это не ларец из слоновой кости в пропитанном пылью музее. Это существо, которое живет, пожирает и переваривает. Оно пожирает и себя, как легендарный феникс, чтобы мы могли жить, чтобы оно не разрушило нас самих. Вот этому вы и хотите воспрепятствовать.
— Да! — Шварц взглянул на меня с благодарностью. — Вы сказали — только тогда, когда умираешь, память обращается в камень. Вот я и умру.
— То, что я сказал, — нелепость, — устало проговорил я.
Я ненавидел подобные разговоры. Я встречал слишком много ненормальных. В изгнании они росли, как грибы после дождя.
— Нет, я не думаю лишать себя жизни, — сказал вдруг Шварц и усмехнулся, будто догадавшись, о чем я думал. — К тому же жизнь сейчас слишком нужна для других целей. Просто я умру как Иосиф Шварц. Рано утром, когда мы попрощаемся, его больше не будет.

![Эрих Ремарк - Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса]](https://cdn.my-library.info/books/137955/137955.jpg)