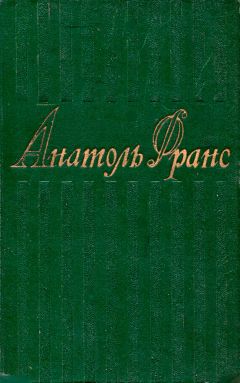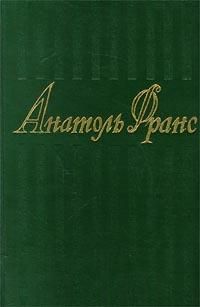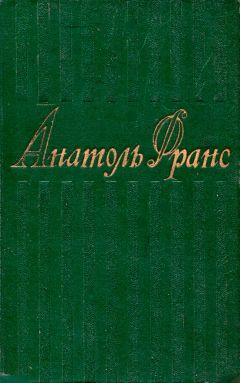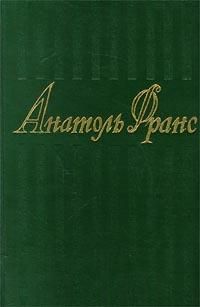– Увы! Необходимо подготовить ее к жизни, – ответил мэтр Муш. – На земле существуют не для забавы и не для того, чтобы давать волю всем своим желаниям.
– На земле существуют, чтобы любить добро и красоту и давать волю всем своим желаньям, если они благородны, великодушны и разумны, – горячо возразил я. – Воспитание, не развивающее таких желаний, только извращает душу. Надо, чтобы наставник учил хотеть.
Мне почудилось, что мэтр Муш расценивает меня как человека жалкого. Он вновь заговорил вполне спокойно и уверенно:
– Подумайте о том, господин Бонар, что воспитание бедных надо вести крайне осмотрительно, имея в виду то зависимое положение, какое им придется занять в обществе. Вы, может быть, не знаете, что Ноэль Александр умер неоплатным должником и дочь его воспитывается почти из милости…
– О! господин Муш! – воскликнул я. – Вот этого не надо говорить. Говорить так – значит самому вознаграждать себя, а это было бы уже неправильно.
– Пассив наследства, – продолжал нотариус, – превосходил актив. Но я уладил дело с кредиторами в пользу несовершеннолетней.
Он предложил мне дать подробные разъяснения; я отказался – по неспособности понимать денежные дела вообще, а мэтра Муша в частности. Нотариус снова стал оправдывать систему воспитания мадемуазель Префер и в виде заключения сказал:
– Нельзя учиться, забавляясь.
– Учиться можно, только забавляясь, – ответил я. – Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее; а здоровая, живая любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. Я знаю Жанну. Если бы этого ребенка доверили мне, я сделал бы из нее не ученого, ибо желаю ей добра, а ребенка, блещущего умом и жизнью, – такого, чтобы в его душе вся красота природы и искусства отображалась нежным блеском. Она жила бы у меня в духовном единении с красивыми пейзажами, с идеальными образами поэзии и истории, с благородно трогательной музыкой. Все, к чему мне хотелось бы внушить ей любовь, я сделал бы для нее привлекательным. Даже рукоделье я бы возвысил для нее подбором тканей, характером вышивок и стилем кружевных отделок. Я подарил бы ей красивую собаку и пони, чтобы научить ее ходить за живыми существами; я бы дарил ей птиц, чтобы, кормя их, она узнала цену капле воды и крошке хлеба. Я создал бы еще одну отраду для нее – возможность радостно благотворить. А поскольку горе неизбежно, поскольку жизнь полна страданий, я научил бы ее той христианской мудрости, которая нас поднимает выше всех страданий и красит само горе. Вот как я мыслю воспитание девицы!
– Преклоняюсь, – ответил мэтр Муш, складывая руки в черных шерстяных перчатках.
Он встал.
– Вы понимаете, конечно, – сказал я, провожая его, – что я не собираюсь навязывать мадемуазель Префер мою систему воспитания, глубоко личную и совершенно несовместную с укладом даже лучших пансионов. Я только умоляю вас склонить мадемуазель Префер к тому, чтобы она давала Жанне поменьше работы и побольше отдыха, не унижала ее и предоставила свободу ее душе и телу, насколько это допускает устав учебных заведений.
С бледной и таинственной улыбкой мэтр Муш стал уверять, что замечания мои будут встречены наилучшим образом и с ними будут очень считаться.
Вслед за этим он кивнул мне головой и вышел, оставив меня в состоянии какого-то смущения и беспокойства. В жизни я встречался со всякими людьми, но ни один не был похож на этого нотариуса и на эту содержательницу пансиона.
6 июля.Мэтр Муш так задержал меня, что на этот день я отказался от своего визита к Жанне. Мои профессиональные обязанности заняли остальные дни недели. Достигнув возраста, когда от дел уходят, я еще связан тысячью нитей с тем миром, в котором жил. Я председательствую на конгрессах, в обществах и академиях. Я обременен почетными должностями; в одном лишь министерстве у меня их добрых семь. Правления и канцелярии охотно отделались бы от меня, так же как и я охотно бы отделался от них. Но привычка сильнее и меня и их, а потому я, ковыляя, взбираюсь по казенным лестницам. После моей смерти старые служители будут показывать друг другу мою тень, блуждающую по коридорам. Когда ты очень стар, необычайно трудно взять и исчезнуть. Меж тем, как говорится в песенке, пора уйти в отставку и думать о конце.
Старая маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеция[98], которую я видел у своего отца весьма престарелой, заболев в последний раз, приняла у себя кюре, желавшего подготовить ее к смерти.
– Разве это так необходимо? – сказала она ему. – Я вижу, что это прекрасно удается всем с первого же раза.
Спустя некоторое время отец мой навестил ее и застал в очень плохом состоянии.
– Добрый вечер, мой друг, – сказала маркиза, пожимая ему руку, – скоро я увижу, выигрывает ли бог при личном знакомстве с ним.
Вот как умирали красавицы, друзья философов. Такой конец бесспорно не имеет ничего общего с вульгарной дерзостью, и легкомыслия такого рода не бывает в голове у дураков. Но мне оно претит. Мои опасенья и мои надежды несовместимы с таким уходом. Перед уходом я бы желал обдумать все поглубже, – вот почему мне надо будет в течение ближайших лет найти время отдаться самому себе, иначе я рискую… Но шш… Как бы Та, что идет мимо, не обернулась, заслышав свое имя. Я еще могу и без нее поднять свою вязанку[99].
Жанну я нашел очень довольной. Она мне рассказала, что в прошлый четверг, после того как ее опекун побывал у меня, мадемуазель Префер отменила установленный порядок и освободила Жанну от нескольких работ. С этого блаженного четверга она свободно прогуливается по саду, в котором недостает только цветов да зелени, – и теперь получила возможность работать над своим злосчастным святым Георгием.
Улыбаясь, она сказала мне:
– Я знаю, что всем этим обязана вам.
Я заговорил о другом, но заметил, что она тщетно старается внимательно слушать меня.
– Я вижу, вас занимает какая-то мысль, – сказал я. – Поделитесь ею со мной, иначе мы не скажем друг другу ничего путного, а это будет недостойно ни меня, ни вас.
Она ответила:
– Нет! Я вас слушала; но это верно, что я думала об одной вещи. Вы мне простите, не правда ли? Я думала о том, что мадемуазель Префер, должно быть, очень вас любит, если она вдруг стала так добра ко мне.
И она взглянула на меня с улыбкой, но в то же время испуганно, чему я засмеялся.
– Вас это удивляет? – спросил я.
– Очень.
– Почему же?
– Я совершенно не вижу оснований для того, чтобы вы нравились мадемуазель Префер.
– Значит, вы, Жанна, считаете меня неприятным человеком?
– О нет! Но, право, я не вижу никакой причины, чтобы вы нравились мадемуазель Префер. И все же вы ей очень, очень нравитесь. Она позвала меня к себе и задавала мне всевозможные вопросы относительно вас.
– В самом деле?
– Она хотела разузнать о вашей домашней жизни. Она даже спросила у меня, сколько лет вашей домоправительнице.
– Вот как? Что же вы думаете по этому поводу? – спросил я.
Она долго смотрела неподвижным взглядом на потертое сукно своих ботинок и, видимо, вся ушла в глубокое раздумье. Наконец, подняв голову, сказала:
– Мне что-то подозрительно. Не правда ли, ведь вполне естественно, если тебя тревожит то, чего не понимаешь? Знаю, что я опрометчива, но, надеюсь, вы на меня не сердитесь за это?
– Нет, Жанна, конечно, не сержусь.
Должен признаться, ее недоумение передалось и мне, в моей старой голове вертелась мысль, высказанная этой девушкой: «Тревожит то, чего не понимаешь».
Но Жанна, улыбаясь, продолжала:
– Она меня спросила… угадайте! Она спросила: любите ли вы хороший стол?
– А как воспринимали вы этот поток расспросов?
– Я ей ответила: «Не знаю, мадемуазель». А мадемуазель сказала мне: «Вы дурочка. Необходимо отмечать малейшие подробности в жизни выдающегося человека. Знайте, мадемуазель, что Сильвестр Бонар – одна из знаменитостей Франции».
– Тьфу, пропасть! – воскликнул я. – А вы что думаете об этом?
– Я думаю, что мадемуазель Префер права. Но мне совсем не хочется (это нехорошо так говорить)… совсем не хочется, чтобы мадемуазель Префер была в чем-нибудь права.
– Ну, так будьте довольны, Жанна: мадемуазель Префер не права.
– Нет! Нет! Она вполне права. Но мне хотелось бы любить всех, кто любит вас, всех без исключенья, а этого я не логу, – я никогда не буду в состоянии любить мадемуазель Префер.
– Послушайте меня, Жанна, – ответил я серьезно. – Мадемуазель Префер стала хороша с вами, будьте же и вы хороши с ней.
Она сухо возразила:
– Для мадемуазель Префер очень легко стать хорошей со мной, мне же очень трудно быть с ней хорошей.