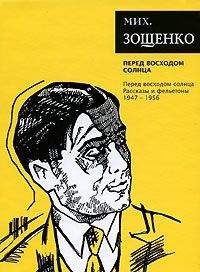И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом.
Что же могло осветить эти сцены? Может быть, страх? Или душевное волнение ребенка? Да, вероятно, страх и душевное волнение прорвали тусклую пелену, которой была обернута моя младенческая жизнь.
Но это были короткие моменты, это был мгновенный свет. И потом снова все тонуло в тумане.
И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к трем и четырем годам моей жизни. Некоторые же касались и двухлетнего возраста.
И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с двух до пяти лет.
Что кажется нам сладким на язык,
То кислоту в желудке производит.[54]
На одеяле — пустая коробка от спичек. Спички во рту.
Кто-то кричит: «Открой рот!»
Открываю рот. Выплевываю спички.
Чьи-то пальцы лезут в мой рот. Вытаскивают еще некоторое количество спичек.
Кто-то плачет. Я плачу громче и оттого, что горько, и оттого, что отняли.
Маленькие лакированные туфельки. Блестящие маленькие туфельки неописуемой красоты. Они куда-то едут.
Эти туфельки на моих ногах. Ноги на сиденье. Сиденье синее. Должно быть, это пролетка извозчика.
Лакированные туфельки едут на извозчике.
Не отрываясь я смотрю на эти туфельки.
И больше ничего не помню.
Блюдце с кашей. Ложка направляется в мой рот. Чья-то рука держит эту ложку.
Отнимаю эту ложку. Сам буду кушать.
Глотаю кашу. Горячо. Реву. Со злостью колочу ложкой по блюдцу. Брызги каши летят в лицо в глаза.
Невероятный крик. Это я кричу.
Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее.
Человек поднимает птицу. Зачем? Чтоб она улетела? Она не может улететь. Она неживая. Она на палке.
Кто-то говорит: готово.
Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне два года и три месяца.
Мягкий полосатый диван. Над диваном круглое окошечко. За окошечком вода.
Я сползаю с дивана. Открываю дверь каюты. За дверью нет воды.
Иду по коридору. Возвращаюсь.
Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился! Кричу и плачу.
Мать открывает дверь. Говорит:
— Сиди тут. Никуда не уходи.
Двор. Солнце. Летают большие мухи.
Сижу на ступеньках крыльца. Что-то ем. Должно быть, булку.
Кусочки булки бросаю курам.
Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня.
Машу рукой, чтоб петух ушел. Но он не уходит. Приближается ко мне. И вдруг, подскочив, клюет мою булку.
С криком ужаса я убегаю.
На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня.
А я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле. И ем кашу.
Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на стол.
Я отчаянно реву.
Кто-то кричит:
— Он боится собак. Прогоните ее!
Собаку прогоняют.
Посматривая на кошку, я ем кашу.
Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня.
Вдруг идет нищий с мешком.
Кто-то говорит ему:
— А вот возьмите мальчика.
Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу.
Кто-то говорит:
— Не отдам, не отдам. Это я нарочно.
Нищий уходит со своим мешком.
Мать держит меня на руках. Бежит. Я прижимаюсь к ее груди.
Дождь барабанит по моей голове. Струйки воды текут за воротник. Реву.
Мать закрывает мою голову платком. Бежим быстрей.
Вот мы уже дома. В комнате.
Мать кладет меня на постель.
Вдруг сверкает молния. Гремит гром.
Я сползаю с кровати и так громко реву, что заглушаю гром.
Мать держит меня на руках. Мы смотрим зверей, которые в клетках.
Вот огромный слон. Он хоботом берет французскую булку. Проглатывает ее.
Я боюсь слонов. Мы отходим от клетки.
Вот огромный тигр. Зубами и когтями он разрывает мясо. Он кушает.
Я боюсь тигров. Плачу.
Мы уходим из сада.
Мы снова дома. Мама говорит отцу:
— Он боится зверей.
Я сижу на высоком стуле. Пью молоко. Попалась пенка. Плюю. Реву. Размазываю пенку по столу.
За дверью кто-то кричит страшным голосом. Приходит мама. Она плачет. Целуя меня, она говорит:
— Умирает дядя Саша.
Размазав пенку по столу, я снова пью молоко.
И снова за дверью ужасный крик.
Ночь. Темно. Я проснулся. Кричу. Мать берет меня на руки.
Я кричу еще громче. Смотрю на стену. Стена коричневая. И на стене висит полотенце. Мать успокаивает меня. Говорит:
— Ты боишься полотенца? Я уберу его.
Мать снимает полотенце, прячет его. Укладывает меня в постель. Я снова кричу.
И тогда мою маленькую кроватку ставят рядом с кроватью матери.
С плачем я засыпаю.
И вот передо мной двенадцать историй крошечного ребенка.
Я внимательно пересмотрел эти истории, но ничего особенного в них не увидел. Каждый ребенок сует в рот то, что подвернется под руку.
Почти каждый ребенок страшится зверей, собак. Плюет, когда попадает пенка. Обжигает рот. Кричит в темноте.
Нет, обыкновенное детство, нормальное поведение малыша.
Сложенные вместе, эти истории также не разъяснили мне загадки.
Показалось, что я зря припомнил всю эту детскую чушь. Показалось, что все, что я вспомнил о своей жизни, я вспомнил напрасно.
Все эти сильные впечатления, должно быть, не являлись причиной несчастья. Но, может быть, они были следствием, а не причиной?
Может быть, несчастное происшествие случилось до двух лет? — неуверенно подумал я.
В самом деле. Ведь первые встречи с вещами, первое знакомство с окружающим миром состоялось не в три и не в четыре года, а раньше, на рассвете жизни, перед восходом солнца.
Должно быть, это была необычайная встреча, необычайное знакомство. Маленькое животное, не умеющее говорить, не умеющее думать, встретилось с жизнью. Именно тогда, а не позже и могло произойти несчастное происшествие.
Но как же мне его найти? Как мне проникнуть в этот мир, лишенный разума, лишенный логики, в этот мир, о котором я решительно ничего не помню?
И виделось, как в тяжком сне,
Все бледным, темным, тусклым мне.[55]
Напрягая память, я стал думать о начале моей жизни. Однако никаких сцен мне не удалось вызвать из забвения. Никаких далеких очертаний я не смог уловить. Даль сливалась в одну сплошную, однообразную тень.
Серый плотный туман окутывал первые два года моей жизни.
Он стоял передо мной, как дымовая завеса, и не позволял моему взору проникнуть в далекую таинственную жизнь маленького существа.
И я не понимал, как мне разорвать этот туман, чтобы увидеть драму, которая разыгралась на рассвете моей жизни, перед восходом солнца.
Что драма разыгралась именно тогда, я уже не имел сомнений. В поисках того, что не было, я бы не испытал такого безотчетного страха, который я стал испытывать, стараясь проникнуть туда, куда не разрешалось проходить людям, перешагнувшим младенческий возраст.
Я старался представить себя годовалым младенцем, с соской во рту, с побрякушкой в руках, с задранными кверху ножонками.
Но эти сцены, искусственно нарисованные в моем мозгу, не расшевелили моей памяти.
И только однажды, после напряженного раздумья, в моем разгоряченном уме мелькнули какие-то забытые видения.
Вот складки какого-то одеяла. Какая-то рука из стены. Высокая колеблющаяся тень. Еще тень. Какая-то белая пена. И снова длинная колеблющаяся тень.
Но это были хаотические видения. Они напоминали сны. Они были почти нереальны. Сквозь них я хотел увидеть хотя бы тень моей матери, ее образ, ее фигуру, склоненную над моей кроваткой. Нет, мне не удалось этого сделать. Очертания сливались. Тени исчезали, и за ними снова была — пустота, тьма, ничто… Как сказал поэт:
Все в мутную слилося тень,
То не было — ни ночь, ни день.
То было — тьма без темноты,
То было — бездна пустоты
Без протяженья и границ,
То были образы без лиц.
То страшный мир какой-то был
Без неба, света и светил.[56]
Это был мир хаоса. Он исчезал от первого прикосновения моего разума.