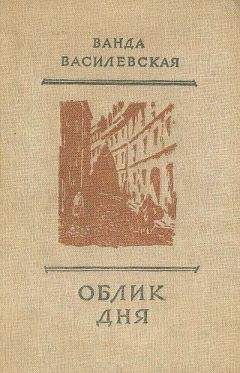— Птички, — злобно цедит сквозь зубы Анатоль.
— А как бы ты думал? Дело не в птичках, а в законе, понимаешь? Я в прошлую пятницу чижа за пятьдесят грошей продал. Человек незаконными путями богатеет, между тем как на кирпичном заводе ему платят целых восемь грошей в час, вот у него и заводится фанаберия, состояние хочется нажить… А отсидит денька три и сразу придет в себя. Всяк сверчок знай свой шесток, на том и государство держится, да, да! Собственной кровью я это государство завоевывал… в нестроевых частях.
— Были на войне?
— Как же, как же! В армию не взяли — стар, дескать. Ну, а меня так от этой самой любви к дорогой отчизне распирало, вроде как от касторки, я, значит, — в легионы. Большой-то пользы от меня не было, потому ноги у меня больные, ну, а все же. Хоть и в нестроевых частях, а все считается, что сражался, мол, человек за независимость!
— Хороша независимость!
— А что ж ты хочешь? Молод ты еще, жизни не знаешь. А я два года по дорогам шагал, чтобы, понимаешь, не какая-нибудь австрийская или русская сволочь, а своя, отечественная, нас по мордам била…
— Велика разница!
— А то нет? Совсем другое дело! Тогда, бывало, в человеке вся кровь кипит. А теперь — вроде как медом тебя по морде мажут. Бей, брат-соотечественник, я же за это при полковой кухне сражался, бей. «Не немцу нам плевать в лицо…», а своему, поляку, совсем другой коленкор. Хотя, по правде сказать, и тут нас кое в чем обманули. Сейчас же после войны вышла там одна история. Делают у меня обыск. Гляжу — и чуть не лопнул от злости. Стоит у дверей, да еще и улыбается мне — тоже узнал! — тот самый шпик, который и до войны у меня обыск делал. О-о! Вот это уж некрасиво, думаю. За что же человек боролся, хоть, скажем, и в нестроевых частях? Ведь за своего, родного, отечественного шпика. Так или нет? Очень мне это не понравилось! На что похоже, — тот же самый?
Или вот хоть привратник у тюремных ворот. До войны на этой же должности сидел, врагом был, национальный гнет олицетворял, все польское, сволочь, подавлял, за патриотические штучки в камеру сажал… Я сколько времени скитался по свету, вернулся, — а он все тут и опять меня в камеру сажает… Непорядок! Впрочем, где тебе в этом разобраться… Молод еще, не стонал под ярмом неволи, откуда тебе знать, какая разница — стреляет ли тебе в лоб австрийский фараон или отечественный легавый. Ты, прости господи, может, и не понимаешь, что такое отчизна. Тебе это, может, все равно, космополит ты этакий, гражданин, прости господи, всего мира! Тебе, наверно, кажется, что все равно где работать? Нет, брат, нет! Вот, хоть и у нас, на кирпичном заводе. Щепан пятьдесят грошей в день зарабатывает, а доволен. Потому, видишь ли, что знает, на кого работает — на своих. Те деньги, что ему не доплачивают, идут в польский карман, обогащают польскую землю. Что такое Щепан? Маленький человек, ума у него не бог весть сколько, а так — и он имеет возможность на отчизну поработать. Когда у него маленький зимой с голоду помер, так он по крайней мере знал ради чего, — ради укрепления нашего родного польского капитала. Да, да… Это очень важно, сынок, где человек с голоду подыхает. В независимой Польше это одно удовольствие. Ты мне на это, может, скажешь, что рабочий везде одинаков? Куда там! Француз, например, фармазон проклятый, трещит по-французски, нетто ты поймешь? Ничего не поймешь? А вот когда тебя свой инженер на постройке покроет — каждое слово поймешь. Или, скажем, немец. Тебе, наверно, кажется, что он только и думает, как на бабу с детишками заработать, как за квартиру заплатить или еще что? Нет, брат! Он день и ночь только и думает, как бы на тебя напасть да твои богатства у тебя отобрать! Да и про мое место на нарах в бараке уже, наверно, пронюхал, спит и видит, как бы меня оттуда согнать да самому улечься. А то и на Щепановы харчи польстился, так и облизывается, дьявол, как про них вспомнит. Не веришь? Почитай газету, каждый день про это пишут.
— Язык у вас хорошо подвешен, ничего не скажешь, — улыбается Анатоль.
— А тебе жалко? Когда сам на собрании два часа орешь, так тебе можно? Я же ведь слушаю, ничего не говорю, хоть меня иной раз и подмывает. Хорошо говоришь, красиво говоришь, а все же человека так и подмывает по-своему кое-что прибавить. Только не любит народ моего разговора. Злятся, что я, дескать, насмешки строю. Господи помилуй, насмешки! И темен же еще народ, если ему как на лопате не выложишь, — так, мол, и так, — ничего не поймет! Этот Флорек, который со мной работает, иной раз чуть не плачет. Дурной еще совсем, а славный паренек, присмотрел бы ты за ним немного, Анатоль, а то как бы он на этих кирпичах совсем не отупел. Жаль малого, молоденький еще, если так бросить — совсем его кирпич сожрет.
— Вас что-то не сожрал.
— Ого-го! Со мной дело не так-то просто. Я, понимаешь, жилистый, кожа да кости, так об меня и кирпич зубы обломает. Впрочем, то еще тебе скажу, что моя баба хуже кирпича, вот я как-то и закалился. Говорю тебе, Анатоль, не женись! Последние кишки баба из тебя вымотает. Как попадется такая, что поговорить любит, — пропал человек! Ничего не поможет. Насмерть заговорит. А эти молчаливые, те и того хуже. Так и смотрит, как бы из тебя кровь выпить и дырки не сделать. Молчит, молчит, а уж как скажет что, так такую булавку под ребро ткнет, что у тебя и язык отнимется. Уж я-то в этом разбираюсь, двух похоронил да еще третий раз черт дернул жениться. Верно говорят, что если уж кто глуп, так ничто его уму-разуму не научит. Вместо того чтобы на один рот работать, работай на два, да еще то и дело получай по морде. Плохое это дело — баба. А хуже всего то, что, какова она, разберешь только после свадьбы. Пока что, так она ровно мед сладкая. Придешь домой, а там чистенько, убрано, подметено, аж блестит. И на машинке шьет, и цветочки в саду сажает. Человек сидит и прямо глупеет от радости, что ему такая попалась. А только повенчайся — ого! Конец и цветочкам и всему. Тараканы среди бела дня по комнате бегают, от мух аж темно, ребенок орет, а она по кумушкам бегает. У тебя сквозь дыры в штанах грешное тело просвечивает, а чтоб зашить — и не заикайся, она тебе так ответит, что в глазах потемнеет. Да, да, вот они каковы, бабы.
— А сами три раза женились.
— Да ведь говорю ж я тебе, что человека ничто уму-разуму не научит. Все думается: а вдруг повезет. Было плохо, а теперь вот лучше будет. И так тебя одурманит, так обольстит, что оглянуться не успеешь, как и обвенчался. Два раза я клялся, что больше не женюсь, и всякий раз еще и передохнуть не успею, как, глядишь, в дому уже новое горе. Да ведь и то сказать, человек не кабан, одному все как-то не по себе. Вот такая женщина, как твоя мать, это другое дело.
— Вот видите, есть и такие.
— Есть, есть, как не быть, да вот мне-то не попадались. Осмотришься кругом, у другого увидишь, а у себя никогда. Ты только посмотри, что кругом делается. И ругаются и дерутся, доброго слова друг другу не скажут. Или ходят друг мимо друга как чужие.
— Это уж не со злости, а от нужды.
— И то правда, и то правда, — бормочет Войцех в седые усы. — Да, это уж от нужды. Терпелив народ, Анатоль, ой терпелив! Ксендза слушает, барину верит, тащит на себе все это горе, нищету да еще сам спину под кнут подставляет.
— Что-то вы сегодня не веселы.
— Эх, доехала меня эта история с птичками, хоть на стену лезь. Покровители нашлись, видал? А ты молчи! Наслушаешься, наслушаешься, а потом — поклон, да и вон! Птичку поймал, так плати или в тюрьму! А вот кабы ты на большие тысячи польстился, никто бы и не спросил, откуда они у тебя. Маленьких воров ловят, а большим в пояс кланяются. Так уж, видно, было с сотворения мира. Помни, Анатоль, коли возьмет тебя охота что-нибудь слямзить, так меньше, чем со ста тысяч, не начинай. Иначе — тюрьма. А так, и деньги у тебя будут и почет, а если куда приедешь, сейчас и в газетах напечатают: приехал, мол, в наш город известный, уважаемый такой-то, на важное совещание. Вот оно как.
Здесь их пути расходятся. Войцех сворачивает в сторону, по направлению к кирпичному заводу. Его огромные рыжие от глины сапоги тяжело месят грязь. Погасшая трубочка торчит во рту. Он все еще что-то бормочет про себя. Тщетно ищет спички в пустых карманах. Тяжело опускает плечи, словно неся на них все бремя мира.
Зал переполнен. Анатоль пристально всматривается в сбившуюся серую толпу. Знакомые лица, на всех — морщины одной и той же заботы. Клубы дыма от дешевых папирос.
Анатоль говорит. Сперва медленно, спокойно. Постепенно извлекая из мозга горящие в нем огненными буквами слова. Одно за другим. Слова соединяются в крепкие звенья, опоясывают зал. И — вверх. Воздвигаются высокими лесами, перебрасываются с угла на угол пламенным сводом.
Отдельные лица исчезают. Анатоль смотрит в одно лицо, в сурово вытесанное лицо простого человека, В обострившееся от нищеты лицо трудящегося человека. И в это лицо бросает свои пламенеющие слова.