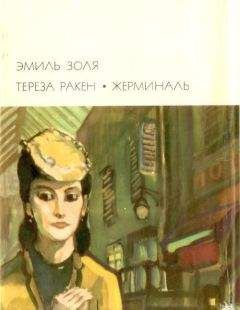Но тут за стеной поднялся такой шум, что она умолкла. Раздавался мужской голос, выкрикивавший ругательства, женский плач, потом началась драка, топот, возня, посыпались тумаки, звучавшие словно удары по пустой тыкве.
— Левак жену учит, — спокойно заметил Маэ, выскребывая ложкой дно миски. — Удивительно! Ведь Бутлу говорил, что похлебка готова.
— Ну да, готова!.. — сказала Маэ. — Я сама видела, — овощи на столе лежали даже неочищенные.
Крики усилились, что-то грохнуло так, что стена задрожала, и сразу настала глубокая тишина. Тогда Маэ, проглотив последнюю ложку, сказал в заключение, как человек хладнокровный и справедливый:
— Ну, если суп она не сварила, то понятно…
И, выпив целый стакан воды, принялся за студень, сперва разрезав его на квадратные кусочки; он обходился без вилки, — просто подхватывал кусочек острием ножа и, положив на хлеб, отправлял в рот. Когда отец ел, никто не разговаривал. Он и сам тоже не любил говорить и молча утолял голод; прожевывая ломтики, Маэ думал о том, что студень вкусом не похож на тот, что продавался в лавке Мегра, — наверно, жена купила его где-то в другом месте; однако он не задал по этому поводу никаких вопросов; осведомился только, спит ли еще наверху старик. Нет, дед уже встал и, как всегда, пошел прогуляться. Опять настало молчание. Но запах мясного привлек внимание Анри и Леноры, игравших на полу, где они «делали ручеек» из пролитой воды. Малыши встали у стола (младший чуть впереди) и следили глазами за каждым кусочком студня, — сперва жадным взглядом, полным надежды, когда отец подхватывал квадратик с тарелки, а затем с глубоким разочарованием, когда этот ломтик исчезал во рту у отца. Маэ наконец заметил, что ребятишек томит желание отведать лакомого кушанья, — оба даже побледнели и нервно глотали слюну.
— А детям ты давала студня? — спросил он жену.
Она замялась, не решаясь ответить.
— Ты же знаешь, не люблю я несправедливости. Всякий аппетит пропадает, когда они тут вертятся, клянчат кусочек.
— Да ведь я им давала! — сердито воскликнула жена. — Нечего на них смотреть! Ты им хоть всю свою долю отдай, да в придачу еще и то, что другим оставили, они все слопают. Такие обжоры! Альзира, ведь мы все ели студень, верно?
— Ну конечно, ели, — ответила маленькая горбунья.
В таких случаях она лгала уверенно, как взрослая.
Ленора и Анри остолбенели, изумленные и возмущенные такой ложью, — ведь мать их порола, если они говорили неправду. У обоих сердчишко сжималось от негодования, им так хотелось возразить, сказать, что их не было в комнате, когда другие ели студень.
— Убирайтесь! — крикнула мать, отгоняя их в другой угол комнаты. — Как вам не стыдно заглядывать в отцовскую тарелку. Да если бы даже ему одному дали мяса! Ведь он-то работает и вас, бездельников, кормит. В вас все как в прорву, — вон вы какие худые!
Маэ подозвал их. Посадил Ленору на одно колено, Анри на другое, и студень доедали все вместе. Каждому своя порция: отец отрезал для малышей по кусочку, они в восторге поглощали угощение.
Покончив с обедом, Маэ сказал жене:
— Нет, кофе мне сейчас не наливай. Сперва я помоюсь. Помоги-ка мне грязную воду вылить.
Они вынесли лохань, взяв ее за ушки, и когда выливали воду в сточную канаву, проложенную на улице, сверху сошел Жанлен, переодевшись в сухое платье, унаследованное от брата, — длинные не по росту штаны и выцветшую куртку.
Но лишь только он прошмыгнул в отворенную дверь, мать остановила его:
— Ты куда?
— Туда…
— Куда это «туда»?.. Вот что, ступай-ка нарви мне листьев одуванчика для салата. Слышишь? Если не принесешь, я тебе покажу.
— Ладно! Ладно!
Жанлен отправился. Десятилетний заморыш шел размашистым шагом, как старый шахтер, ворочая худенькими бедрами и шаркая деревянными башмаками. Вслед за ним спустился сверху Захарий, одетый понаряднее — в облегающей шерстяной фуфайке, черной с голубыми полосами. Отец окликнул его, велел поздно домой не возвращаться, но Захарий в ответ только кивнул головой и вышел с трубкой в зубах. Лохань снова налили теплой водой, Маэ не спеша расстегнул куртку. По взгляду матери Альзира увела Ленору и Анри играть на улицу. Маэ не любил мыться при детях, как это делали отцы во многих домах поселка. Впрочем, он никого за это не осуждал, только говорил, что одним лишь ребятам пристало полоскаться вместе.
— Катрин, ты чего там делаешь? — крикнула мать в пролет лестницы.
— Платье чиню, а то вчера разорвала, — ответила Катрин.
— Хорошо… Сюда не ходи, отец моется.
Маэ с женой остались одни. Мать решилась наконец положить Эстеллу на стул, и та каким-то чудом, — должно быть, пригревшись у огня, — не кричала и смотрела на родителей бессмысленным младенческим взглядом. Отец, раздевшись донага, присел на корточки перед лоханью и сначала окунул в воду голову, а затем принялся намыливать ее зеленым мылом, которое уже сто лет употребляли углекопы, и за столетие от этого мыла у всех ворейских шахтеров волосы обесцветились, стали белесыми, желтоватыми. Вымыв голову, Маэ забрался в лохань, намылил себе грудь, живот, руки, ноги и принялся обеими руками энергично тереть их. Жена, стоя рядом, смотрела на него.
— Слушай, — начала она, — я ведь заметила, какой у тебя взгляд был, когда ты пришел… Очень ты беспокоился, да? А увидел на столе съестное и обрадовался… Знаешь, господа в Пиолене ни гроша мне не дали. Ничего не скажешь, — они наших младшеньких одели… Мне, право, стыдно было просить, клянчить… Не могу я! Язык не поворачивается…
На минутку она остановилась, поудобнее уложила Эстеллу на стуле, боясь, как бы малютка не упала. Маэ продолжал усердно натираться мылом, чуть не сдирая кожу, и не задал жене ни одного вопроса о том, как она нашла пропитание, что, однако, живо интересовало его, — он терпеливо ждал, когда она сама все расскажет.
— А Мегра, знаешь, сперва отказал и прямо как собаку выгнал… Сам понимаешь, каково мне весело было! Шерстяные платья, конечно, дело хорошее, в них тепло ребятишкам, но ведь от платьев сыт не будешь, верно?..
Маэ поднял голову, но ничего не сказал. Как же это? В Пиолене ни гроша не дали, Мегра отказал, так откуда же все это взялось? Но жена уже засучила рукава, собираясь, как всегда, потереть ему спину и поясницу, — ему самому трудно дотянуться. Да он и любил, когда она его растирала с такой силой, что чуть руки себе не выворачивала. Вот и сейчас, взявшись за дело, она принялась обрабатывать ему лопатки, а он напрягал мышцы, чтобы выдержать натиск.
— Ну так вот… Я опять пошла к Мегра. Тут уж я ему кое-что сказала… Да, сказала!.. И что сердца-то у него нет и что не миновать ему беды, если есть в мире справедливость… Ему, видно, неприятно было слышать. На меня не смотрит, отворачивается, того и гляди убежит…
От спины она перешла к пояснице, потом к ногам, не пропустила ни одной складки, натирая мокрое тело так же рьяно, как в субботнюю уборку начищала три свои кастрюли. Обливаясь потом, растирая его изо всех сил, она вся сотрясалась, тяжело дышала и все продолжала говорить отрывисто:
— В общем, назвал он меня занозой: впилась, говорит, не отделаешься. Будет отпускать нам в долг хлеб, а главное — дал взаймы пять франков… Я взяла у него масла, кофе, цикорий, хотела еще взять колбасы и картошки, да вижу, он ворчит… Купила в другом месте, — за студень заплатила семь су, за картошку — восемнадцать. Остались у меня три франка семьдесят пять су — на обеды да ужины… Вот как! Зря утро у меня не пропало.
Теперь она вытирала его тряпкой, там, где тело еще не обсохло. А он, радуясь сегодняшней удаче и не думая о новом долге, громко захохотал и схватил ее в охапку.
— Пусти, глупый! Ты мокрый, вымочишь меня… Только вот боюсь, как бы Мегра не замыслил кой-чего…
Она хотела было сказать о Катрин и замялась. Зачем тревожить отца? Конца края не будет неприятностям.
— Что он там замыслил?
— Да, верно, замыслил нажиться на нас, вот что. Пусть Катрин хорошенько проверит счет.
Муж снова схватил ее и уже не отпускал. Купанье всегда кончалось таким образом. От энергичного массажа, от того, что тряпка щекотала ему и волосатую грудь и под мышками, он чувствовал прилив молодечества. Да и во всем поселке это был час забвения, когда детей зачинали больше, чем позволяло благоразумие. По ночам кругом была семья. Маэ подталкивал жену к столу, посмеиваясь довольным смехом здоровяка мужчины, наслаждающегося единственной приятной минутой за весь день. Маэ говорил, что это сладкое кушанье после обеда, да еще даровое — денег не стоит. Жена, колыхая бедрами и грудью, похохатывая, отбивалась:
— Вот дурень-то, господи! Вот дурень!.. А Эстелла-то на нас смотрит. Да погоди ты, я хоть головенку ей поверну.
— Скажешь тоже! Или она в три месяца что понимает?
Наконец Маэ стал одеваться, но надел он только сухие штаны. Хорошенько вымывшись и поиграв с женой, он любил посидеть голым до пояса. На его коже, отливавшей восковой белизной, как у малокровной девицы, четко выделялась, словно татуировка, «роспись», как говорят углекопы, — царапины, шрамы, порезы, оставленные острыми осколками угля; он, видимо, гордился этими узорами и будто выставлял напоказ свою широкую грудь и блестевшие, как полированный мрамор, мускулистые руки, испещренные синими жилками. Летом все углекопы выходили постоять у дверей в таком туалете. Маэ и в мартовский день, несмотря на сырую погоду, вышел на минутку за дверь, отпустил соленую шуточку, окликнув товарища, тоже стоявшего с голой грудью у своей двери. Вышли и другие. Дети, возившиеся на тротуаре, подымали головы и тоже смеялись, довольные, что веселы их отцы. Усталые труженики дышали свежим воздухом.