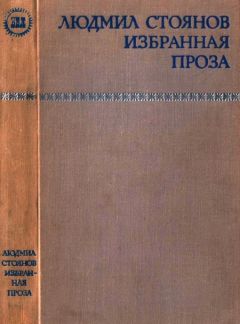Обе дочери сидели наверху, в кухне. Старшая, улегшись на тахту, напряженно думала. Младшая всхлипывала, сидя за столом.
Жена долго стояла у гроба мужа. Остановив на мгновение взгляд на его восковом, испитом лице, она тут же быстро отводила его в сторону. Мысли ее были заняты тревогами этого дня, волнениями сестер, неизвестным будущим. Затем она задумалась о прошлом. Перешла в другую комнату и стала рыться в ящике стола. Что она искала?
Свадебный портрет. Хотела убедиться, действительно ли она так изменилась. О нем даже и не подумала. Портрет хранился вместе с пачкой писем, его писем с фронта. Увы! Повеяло разочарованием. Снимок выцвел, но все же — эта простенькая юбочка, короткий жакетик и немыслимая шляпа с цветами, черешнями, а на них сорока с распростертыми крыльями! Лицо маленькое, бледное, — настоящая изголодавшаяся сельская учительница! А он! Она снова впилась взглядом в красивую голову, огневые глаза и стройный стан поручика. Эх! Быть бы ей умней, не обольщаться одной только внешностью!
Принялась перебирать письма. В прежние времена Йовку раздражала их приторная слащавость, это чувство заставило ее и сейчас бросить письма обратно в ящик. Они рассыпались, и она взяла наугад одно из них.
Полковой командир, писал Матей, не любит его, потому что он, Матей Матов, не может терпеть неправду. Поэтому он всегда посылает его на опасные участки фронта. «Предчувствую, милая Йовка, — писал он, — что меня убьют. Но пусть тебе единственным утешением будет хоть то, что я погиб за царя и отечество. „Сладко умереть за родину“, — говорит латинская поговорка». Йовка вновь почувствовала гадливость. Далее он утешал ее, что она молода, что если она не была с ним счастлива, она найдет себе другого, лучшего, пусть не отчаивается.
В другом письме Матей Матов сообщал подробности боя у Демиркая и своего ранения; но рана не опасна, так что он даже не пойдет в госпиталь. «Я представлен к ордену за храбрость. Меня это не очень радует, потому что и разные проходимцы тоже представлены. И все же думаю, что он будет мне к лицу, да и ты, верю, будешь гордиться своим храбрецом».
Она увлеклась. Забавно — она ли не знала его, но сейчас он рисовался ей в новом свете, как чужой, незнакомый. И уже не был так противен. Он часто говорил, что нужно прощать близким мелкие слабости, хотя сам и не придерживался этого правила.
Йовка углубилась в чтение писем. Между прочим, он писал, что война идет к концу и ей нужно приготовиться встретить его с цветами, потому что он исполнил свой долг (когда другие отсиживались на теплых местах), был ранен и спас полковое знамя. Его произвели в майоры, но он видел себя уже подполковником, полковником, генералом! «Как мы заживем, милая Йовка, ты себе даже не представляешь. Правда, я бывал груб с тобой, но быть простым поручиком — одно, а генералом — совсем другое. Почет, уважение, деньги. Будешь жить, как царица, одеваться в самые дорогие платья. Пусть тогда приходят твой отец и брат Коста — и их облагодетельствую, если хочешь знать». Затем он сообщал, что разругался почти со всеми офицерами, что они дразнят его «диким петухом»… «Подам жалобу в верховную ставку, чтобы приняли меры против несправедливости в назначениях, чинопроизводстве, награждениях…» Ни слова не было о глухом недовольстве солдат, о том, что они разуты, раздеты, что в письмах своих ропщут на войну, на бесчинства, творимые в тылу… Это, очевидно, до него не доходило, да и жена об этом не подумала, — сначала она читала письма с улыбкой и любопытством, потом с интересом: перед ней вставало прошлое, и оно не казалось ей таким уж беспросветным… Она задремала над письмами.
Когда Йовка очнулась, в окна заглядывал предрассветный сумрак утра.
5
Матея Матова похоронили торжественно, с военными почестями, как победителя у Демиркая и полковника, — этот чин он получил при увольнении из армии. Газеты поместили его портреты с описанием жизни, протекшей в честном и бескорыстном служении царю и отечеству. Не забыли подчеркнуть, что он — зять старого, заслуженного государственного и общественного деятеля Лазара Маждраганова…
Впереди процессии несли Ордена покойного, далее следовали венки, катафалк, все провожавшие, военный оркестр и воинская часть.
Да, только сейчас вспомнили о его заслугах, когда он уже лежал в гробу, неспособный колоть глаза кому бы то ни было, безвредный для любителей темных сделок… Как бы он возликовал теперь, увидев это всеобщее признание!
Жена и обе дочери, окруженные близкими и родственниками, шли за катафалком с воспаленными глазами, в траурной одежде. Их удивляла и радовала созданная вокруг покойного атмосфера торжественности, которая неожиданно возвышала его в их глазах. Звуки погребального марша усиливали их плач.
Дочери, впрочем, были более сдержанны, — необычная пышная церемония возбуждала их любопытство.
Мать была погружена в скорбь, сломлена всем происшедшим, поражена неожиданным ударом. В голове ее вертелись отдельные фразы из произнесенных в церкви речей, в которых Матей Матов был вознесен на недосягаемую высоту, так что она могла теперь смотреть на него только снизу вверх. Это вызывало двойственное чувство: с одной стороны, какое-то облегчение, словно бы она выздоровела после длительной и тяжелой болезни, и с другой — тоску по человеку, который все же был для нее самым близким из всех…
На кладбище, после обычных в таких случаях молитв и речей, когда пропели уже «Вечную память» и гроб был установлен на куче вырытой земли у зияющей ямы, она повалилась на этот гроб и завыла каким-то хриплым, звериным воем:
— Мате-ей, Матей! На кого ты меня покидаешь, Матей!
Ее подняли и отвели в сторону.
Несколько ружейных залпов в серое мартовское небо возвестили о том, что гроб опускают в могилу. Ветер, безучастный и резкий, пригибал высокую сухую траву в городе мертвых.
1929 г. Перевод К. Бучинской и К. Найдова-ЖелезоваХолера
(Солдатский дневник)
1
Брегалница — река не мелкая, но в этот июльский зной она нам едва по колено. Босые, засучив штаны, бредем по лениво текущей воде безмолвно, как скотина, гонимая на водопой… Впрочем, мы особенно и не торопимся; гремящая впереди артиллерийская канонада подсекает нам ноги, словно косой.
На середине реки встречаюсь взглядом с унтером Илией; раздавая патроны перед отправлением на передовую, он сказал мне:
— Ты, студентик, у нас хиленький, хватит с тебя и полусотни.
Сейчас в его взгляде тревожный вопрос: «Слышишь?»
Колонна, перейдя вброд реку, собралась на том берегу. Присели обуться; редко кто обронит словечко — к чему говорить? При мысли, что через час-другой мы попадем на передовую, отнимается язык и начинается дрожь в руках. Вот, например, бай[14] Марин: силится продеть ремень в пряжку и никак не может. Пробует так и этак, но ремень не лезет, а нагнуться нельзя — мешает тяжелый ранец. Раздается команда, а ремень так и остается висеть:
— Становись!
Солдаты, толкаясь, суетясь, выстраиваются неровными рядами лицом к реке. За рекой, по склонам невысоких холмов, извивается новая линия окопов, — в случае необходимости отступим туда. Мы рыли их со смутным чувством, что роем себе могилу.
— Кру-гом! Шагом марш!
Сверху, с раскаленного неба, льются потоки зноя; наши лица заливает потом, не хватает воздуха. Держать равнение невозможно, ряды расстраиваются. Эхо боя доносится все явственнее, и одновременно слабеет наша решимость двигаться вперед. Все же стадное чувство побеждает, — колонна, как огромная гусеница, ползет вперед. Некоторые из солдат чуть не валятся с ног от усталости и голода. Вот она, передовая, на раскинувшихся перед нами холмах, вот и белые облачка в синем небе: они распускаются цветком при каждом разрыве шрапнели.
Среди нас много новобранцев и тыловиков, наспех собранных, чтобы пополнить поредевшие ряды. Новички особенно смешны. Они стараются подбодрить себя, повторяя, что все равно — двум смертям не бывать, а одной не миновать. Однако умереть, хотя бы и один раз, не такой уж пустяк. И чем ближе оно, то страшное, что ждет нас, тем яснее становится, что лучше смерть, чем мучительное ожидание. Пока ты не попал в бой, еще можно верить и даже рассуждать. Но как только перешагнешь этот огненный обруч, сразу оказываешься во власти какой-то чудовищной бессмыслицы. Зачем все это? К чему? Мысленно проклинаешь человеческую глупость…
— Сто-ой!
Справа от дороги равнина пересечена неширокой ложбиной; нас гонят туда, словно стадо на выгон. Мы, бывалые солдаты, понимаем, что это значит: с наступлением сумерек нас бросят на линию огня. А почему бы и нет?