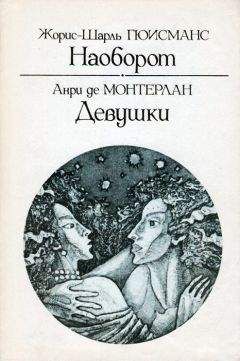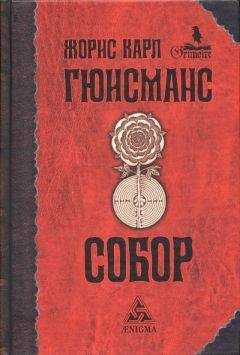Среди сидячей жизни его притягивали только две страны: Голландия и Англия.
Он внял первому желанию; не в силах откладывать, покинул однажды Париж и посетил один за другим нидерландские города.
Результатом поездки было жестокое разочарование. Он судил о Голландии по картинам Теньерса и Стеена, Рембрандта и ван Остаде, представлял евреев, позолоченных солнцем, словно кордовская кожа; воображал дивные храмовые праздники, бесконечные деревенские пирушки, надеялся на патриархальное добродушие и веселый дебош, прославленные этими мастерами.
Конечно, Гарлем и Амстердам соблазнили его; народ, немытый, увиденный в настоящих деревнях, очень напоминал тот, что писал ван Остаде: те же неотесанные детишки, те же кумушки, заплывшие жиром, с раздутыми сиськами и животами; но безудержные радости, семейные попойки — нисколько; в общем, он должен был признать, что был введен в заблуждение голландской школой Лувра; она попросту послужила трамплином для его грез; он бросился по фальшивому следу и проплутал по несравненным видениям, нигде не обнаружив этой сказочной и реальной страны, не увидя на траве, усеянной бочками, танцев крестьян и крестьянок, рыдающих от радости, топающих от счастья, облегчающихся с помощью смеха в юбки и башмаки.{30}
Нет, конечно, ничего подобного он не увидел; Голландия оказалась такой же страной, как другие, и хуже того — страной, нисколько не примитивной, нисколько не добродушной, потому что протестантская религия царила там со своими лицемерными строгостями, своей торжественной крутостью.
Это разочарование вспомнилось ему; он снова взглянул на часы: оставалось всего десять минут. Самое время потребовать счет и уходить. Он ощутил ужасную тяжесть в желудке и во всем теле. Ну, сказал он, чтобы придать себе смелости, выпьем на посошок; и наполнил стакан брэнда, требуя счет. Субъект в черном фраке с салфеткой на руке — нечто вроде мажордома, с острым лысым черепом и седеющей жесткой бородкой, безусый, подошел с карандашом за ухом, выставив ногу, принял позу певца, извлек из кармана записную книжку и, не заглядывая в нее, вперив глаза в потолок, возле люстры, все подсчитал. Вот, сказал он, выдрав листок из книжки и протянул дез Эссэнту; тот смотрел на него с любопытством, как на редкостного зверя. "Какой удивительный Джон Буль", — думал он, глядя на флегматичную личность; бритым подбородком он слегка напоминал рулевого американского флота.
В это время дверь таверны распахнулась; вошедшие внесли с собой запах мокрой псины, к нему примешался угольный дым, повернутый ветром в кухню; ее дверь без щеколды то и дело хлопала; дез Эссэнт не мог шевельнуть ногой; нежное теплое беспамятство скользнуло по всему телу, не позволяя даже руку протянуть, чтобы зажечь сигару. Он думал: "Ну же, ну, вставай, пора"; и немедленно возражение сковало его приказ. На кой черт шевелиться, если можно так восхитительно путешествовать на стуле? Разве он не в Лондоне, с его запахами, атмосферой, жителями, пищей, инструментами! На что еще он может надеяться, кроме разочарования, как в Голландии?
Теперь, чтобы успеть, он со всех ног должен был мчаться на вокзал; бесконечное отвращение к путешествию, властное желание оставаться в покое нахлынули вместе с упрямством. Он позволил течь бесконечным минутам, отрезая себе путь к отступлению, говоря себе: "Теперь нужно было бы спешить к воротам, толкаться с багажом. Какая скука! Каким бы ужасом это было! — потом снова повторил: — В общем, я испытал и видел то, что хотел испытать и увидеть. Я насыщался английской жизнью с момента отъезда; круглым идиотом нужно быть, чтобы терять в неразумном перемещении нетленные чувства. И потом, какое заблуждение — попытка отвергнуть старые привычки, осудить кроткие фантасмагории своего мозга и, как настоящий простак, поверить в необходимость, в интерес экскурсии!" Смотри-ка, сказал он, глядя на часы, самое время возвращаться домой; на этот раз он встал, вышел, приказал кучеру ехать на вокзал Со и вместе с сундуками, пакетами, чемоданами, зонтиками, тростями вернулся в Фонтенэ, ощущая физическую усталость и моральное утомление человека, приехавшего домой после долгого и опасного путешествия.
В течение дней, последовавших за возвращением, дез Эссэнт рассматривал свои книги и при мысли, что мог бы надолго разлучиться с ними, вкушал такое сильное наслаждение, какое испытал бы, если бы обрел их после настоящего отсутствия. Под влиянием этого чувства они показались новыми; дез Эссэнт заметил в них красоту, забытую с тех пор, как купил их.
Все: книги, безделушки, мебель — приобрело в его глазах особую прелесть; кровать становилась мягчайшей, едва он воображал лондонскую кушетку; бесшумность и молчаливость слуг очаровывала его, стоило представить бурную болтливость лакеев отеля; методичная организация собственной жизни представилась более желанной, как только стало возможным путешествие.
Он вновь погрузился в ванну; привычки, искусственные сожаления делали ее более укрепляющей, более тонизирующей.
Но прежде всего занимали книги. Он исследовал их, переставлял по полкам, проверял, не испортила ли жара и дожди переплеты и редкостную бумагу с момента приезда в Фонтенэ.
Начал с того, что перетряхнул всю свою латинскую библиотеку; затем в новом порядке расположил специальные издания Архелаюса, Альберта Великого, Луллия, Арно де Виллановы — трактаты о каббале и оккультных науках; затем одну за другой проверил современные книги и радостно констатировал, что все пребывают в безупречном состоянии.
Эта коллекция стоила немалых денег; он не терпел, чтобы избранные книги были, как у других, напечатаны на обычной бумаге, гвоздями овернских башмаков.
Раньше, когда он жил в Париже, специально нанятые рабочие отпечатали для него одного несколько книг на ручных станках; то он обращался к Перрэну из Лиона (его стройный и чистый шрифт как нельзя лучше воспроизводил архаику старых книг); то заказывал привезти из Англии или Америки новые буквы для перепечатки книг нынешнего века; то адресовался в Лилльский дом, уже несколько столетий обладавший великолепным набором готических шрифтов; то требовал старую типографию Аншеде, из Гарлема; ее литейная мастерская сохраняет пунсоны и матрицы так называемого гражданского шрифта.
Так же обстояло дело и с бумагой. Устав однажды от серебристой китайской, перламутровой и золотистой японской, белого ватмана, смуглой голландской; от "тюркейсов" и "сейшал-мильсов", окрашенных под замшу; отвратившись от бумаг, сделанных машиной, он заказывал верже по специальному образцу, на старых мануфактурах Вира, где до сих пор пользуются толчейными пестами, применяющимися для растирания конопли. Чтобы внести немного разнообразия в свою коллекцию, он неоднократно заказывал в Лондоне ворсистую и репсовую бумагу, а чтобы поддержать его презрение к библиофилам, один негоциант из Любека приготовил для него так называемую "свечную" бумагу — усовершенствованную, голубоватую, звонкую, чуть ломкую; соломинки в ее составе были заменены золотыми песчинками, похожими на те, что поблескивают в Данцигскои водке.
Это позволило ему стать обладателем уникальных книг индивидуального формата; Лортик, Трауц-Бозонне и преемник Капе-Шамболль одевали их в безупречные переплеты из старинного шелка, из тисненой бычьей кожи, из козлиной капской; переплеты или чистые, или с узорами и мозаиками, или подбитые муарированными шелковыми тканями и объяром; по-церковному украшенные застежками и углами, а порой даже покрытые Грюэль-Энгельманом окисью серебра и светлыми эмалями.
Так, например, он заставил напечатать восхитительным епископским шрифтом знаменитого дома Ле Клер сочинения Бодлера (причем широкий формат напоминал формат требников) на легчайшем японском войлоке, губчатом, нежном, словно мозг бузины; в его белизну едва уловимо вкрадывалась розоватость. Отпечатанная в одном экземпляре бархатистой тушью, книга была одета в чудеснейшую, настоящую свиную кожу телесного оттенка, выбранного из тысячи, испещрена пятнышками на месте волосков и украшена черными кружевами холодной ковки.
Дез Эссэнт снял с полки эту несравненную книгу и благоговейно ощупывал ее, перечитывая некоторые стихотворения; в этой строгой, но бесценной раме они казались более проникновенными.
Безгранично было восхищение этим писателем. По его мнению, в литературе до сих пор довольствовались исследованием либо поверхности души, либо проникновением в ее доступные и освещенные глубины, открывая то здесь, то там залежи смертных грехов, изучая их источники, их возрастание, отмечая, как, например, Бальзак, напластования души, одержимой мономанией страсти, честолюбием, скупостью, родительской глупостью, старческой любовью.
Впрочем, это было отличным здоровьем добродетелей и пороков, спокойной деятельностью обычно устроенного мозга, практической реальностью банальных мыслей, без идеала болезненных отклонений, без потустороннего; в общем, открытия аналитиков не шли дальше понятий добра и зла, уже классифицированных церковью; это было простым исследованием, обычным наблюдением ботаника, который тщательно следит за предусмотренным развитием цветений на естественной почве.