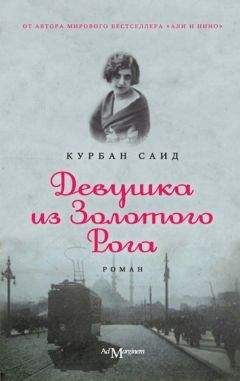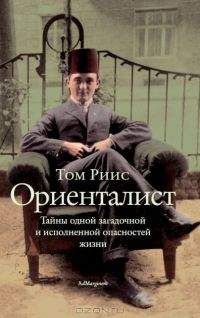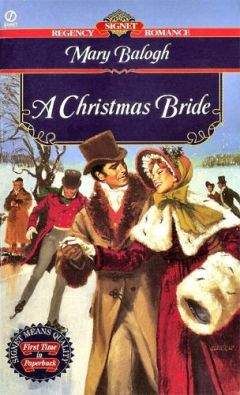— Потому что это иностранное слово, и произносится оно на иностранном языке, — с грустью в голосе отвечает паша. — Я думаю, что языки Европы постепенно теряют силу слова, они превращаются в инструмент, в некое нейтральное кастрированное средство общения. Мы на Востоке чувственнее, мы еще чувствуем силу слова, и в этом разница между Востоком и Западом.
— Нет, — говорит Ролланд, качая головой. Он говорит медленно, убедительно, ему вдруг кажется, что он сидит в обществе мудрецов в одном из залов восточного дворца.
— В западном сознании, — говорит он, — господствует индивидуальное, личное. В нашем же — ощущение безраздельной связи с Единым. Запад отделился от Вселенной, нить, связывающая их разорвана. Высокомерный Запад рискует превратиться в монаду, роющую вокруг себя рвы, чтобы изолироваться от остального мира. Восток же, живет и действует в неразрывной связи с Вселенной. Вот почему в восточном искусстве есть что-то несовершенное и одновременно, безграничное, в то время, как западное искусство — индивидуально и заключено в четкие границы. Если бы я не был столь опустившимся человеком и я мог бы творить, мне следовало бы сначала найти свою душу в космическом океане, который ощущаю в себе. У западных артистов все как раз наоборот. Но и это в принципе, не важно, так как все мы всего лишь прозрачные маски Незримого.
— Ваше Высочество не опустившийся человек, — столь же серьезно возражает ему паша. — Ваше Высочество утратили веру в Отца. Ведь, если подумать — в восточном сознании господствует Отец, а в западном — Сын. Артист должен стремиться во всем происходящим обнаруживать присутствие Отца.
— Я не способен на это, — признается Ролланд. — Я просто трус. Мир видимых форм наводит на меня страх. Если бы я решил создать настоящее произведение искусство, то это было всего лишь сладострастием, скрытым за эстетической оболочкой. А истинное искусство должно быть возвышенным. Оно таинство, благодаря которому слово облачается в невидимую оболочку, дающую ему жизнь, и потому настоящий артист способен творить, подобно Богу. Во главе всего — слово.
Ролланд умолкает и мечтательно смотрит вокруг себя. Огромный зал отеля «Кемпински», жующие рты, склонившиеся над тарелками головы. Он чувствует отвращение, он хочет снова остаться один, подальше от этого сытого жующего мира. Он знает, что это желание противоречит всему тому, что он только что сказал и ощущает сильную жажду. Надо срочно выпить, смыть все внутренние формы видимого мира и остаться в огромной враждебной пустыне одному, с холодным разумом и пустой душой.
Ролланду потребовалось большое усилие, чтобы подавить в себе это желание, ведь он принц священной империи и рядом с ним сидит верный ему паша, в чьих усталых глазах застыла мольба.
Он продолжает говорить, почти механически, а паша смотрит на него и думает о несчастье Османского дома и о своей дочери, которая могла бы помочь принцу, но уже уехала, и его переполняют стыд за этот поступок дочери и грусть от невозможности что-либо изменить. Лицо принца — прозрачная маска Незримого, но паша видит в этой маске гораздо больше, чем знал и догадывался о себе сам принц.
«Ему нужна женщина, хорошая женщина», — думает паша, но не отваживается сказать это вслух, потому что взгляд Ролланда вдруг снова стал холодным и надменным.
— Вы меня предали и бросили все — дом, империю, власть, — грозно говорит он, стуча пальцем по столу. — А самые преданные трону отдают принадлежащих мне женщин, другим мужчинам.
Паша молчит, он думает о своей Азиадэ, думает о том, что если бы он был принцем, он бы с оружием в руках боролся за женщину, которая была ему предназначена. Но он не принц, а всего лишь старый человек, который торгует коврами в лавке на Кантштрасе и нет на свете больше женщин, предназначенных ему.
— Пойдемте, — говорит наконец Ролланд.
Они выходят на улицу и старик, идет рядом с ним, покачиваясь, словно печальный призрак, и вновь рассказывает об Азиадэ, о ее муже, о Вене, в которой замечательная вода.
Ролланд слушает его без особого интереса, женщины были для него всего лишь шумными и мешающими игрушками, столь же бесполезными и никчемными, как и бутылка хорошего виски. На Кантштрасе они расстаются и Джон медленно идет в отель по широкой чистой улице. Он смотрит на довольные лица прохожих и чувствует, как проваливается в бездну. Ему хотелось придушить всех, кто отваживается жить и радоваться жизни в то время, как древняя империя распалась. Принц думает о паше, о грусти, застывшей в его глазах, сгорбленной походке и вновь чувствует, как его охватывает болезненное одиночество. Ему хочется вернуться в магазин, вновь говорить о персидских миниатюрах и о Незримом, которое в прозрачных масках становится земным.
Но он не возвращается, так как древняя империя разрушена, а мертвецов лучше оставить в покое. Вместо этого, он входит в отель, хлопает по плечу Сэма Дута, читающего газету, и неожиданно для себя, говорит:
— Вставай, Перикл, мы едем в Вену!
Автомобиль ехал по извилистому шоссе. Слева, в долине, были видны побеленные башенки деревенских церквей. Зеленые луга переливались в лучах летнего солнца. Сытые коровы у края дороги провожали машину влажными взглядами больших глаз. Босоногие дети играли под деревьями сухими ветками. Справа возвышались округлые зеленые холмы. Земля была окрашена в светлые цвета позднего лета. Солнце стояло низко, ласковое и преданное, как старый друг.
Азиадэ медленно вела машину верх, к Земерингу, любуясь окружающим ее пейзажем — зелеными лугами, башенками церквей в долине, распятиями на поворотах. Она осторожно, как на хрупкую стеклянную игрушку, нажимала на педаль газа. Достаточно было легкого движения ноги — и машина, то рвалась вперед, как дикий, выпущенный на свободу скакун, то снова становилась послушным прирученным домашним животным. Как странно, что одним едва заметным движением руки или ноги можно было управлять этой махиной из железа, колес, ламп, труб и шин. Откинувшись на мягкую спинку сиденья, она чувствовала, как всем телом сливается с машиной. Время от времени на лице Азиадэ появлялась улыбка, и тогда ее наморщенный от напряжения лоб разглаживался. Она снижала скорость на поворотах и вновь увеличивала ее на прямой дороге, а мысли уносили ее в их квартиру на Ринге, к Хасе, который сидит сейчас дома, обливаясь потом в лучах знойного летнего солнца…
Окна в их квартире были постоянно занавешены. Днем Азиадэ ходила на пляжи, посещала кафе. Вернувшись домой, она сталкивалась с незнакомыми людьми, которые сидели в передней и перелистывали журналы. В маленьком салоне с эркером стоял легкий запах лекарств. В соседней комнате Хаса гремел инструментами, то и дело доносился его громкий голос:
— Двадцать два! — выкрикивал он. — Вы хорошо слышите?
— Двадцать два! Четырнадцать! — отвечал пациент, и снова звенели инструменты.
Потом Хаса выходил в белом халате, обливаясь потом, и на ходу одаривал Азиадэ поцелуем, бросив на нее совершенно отсутствующий взгляд, и она боялась, что он сейчас и от нее потребует сказать «двадцать два» и поставит диагноз. Но он не ставил диагноза. Он присаживался на несколько секунд в кресло, держа руку Азиадэ в своей руке, а потом снова исчезал в кабинете.
— Скажите «и», — кричал он, и высокий голос жалобно и робко произносил «и-и-и-и».
В большой гостиной на письменном столе лежала кипа книг. Филологические журналы, одетые в бесцветные обложки, напоминали обиженных старых дев. Азиадэ с сознанием вины открыла один из них, вычитала, что диапазон полистадилитета грузинского языка тянется от аморфной ступени до флективной. Для непосвященных это звучало полной абракадаброй, но Азиадэ все поняла и только удивилась тому, что такой неслыханный диапазон не производит на нее никакого впечатления. Она скучая, перелистала журнал. На последней странице сообщалось, что профессор Шанидзе обнаружил на озере Ван палимпсэсте с ханметийскими текстами. Она раздраженно захлопнула журнал. С тех пор как она вышла замуж, все эти загадочные формы незнакомых слов утратили свое магическое воздействие на нее.
Грубые слова больше не пробуждали в ней образов узкоглазых кочевников в далеких степях.
В комнате Хасы звонил телефон.
— Да, — услышала она. — Вы можете сегодня еще прийти, ну, скажем, где-то в половине седьмого.
Все ясно, сегодня прием снова затянется до восьми. В такие дни она уходила в кафе и читала журналы, пока не приходили доктор Закс или доктор Курц.
В половине девятого приходил Хаса и они ехали в Пратер или Кобенцл. На Кобенцле шумели деревья. В вечернем небе особенно четко выделялось «чертово колесо». Азиадэ пила кислое молоко и слушала рассказы Хасы о пациентах, о театре или о политике. До поздней ночи они сидели там, и Азиадэ, глядя сверху на огни города, думала о том, что жизнь прекрасна, но в то же время очень серьезна и совсем не такая, какой она себе ее представляла.