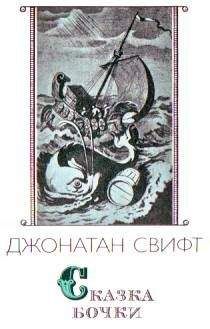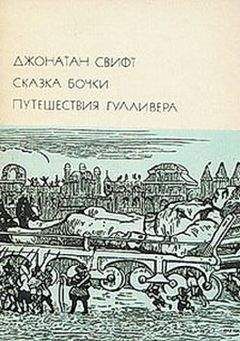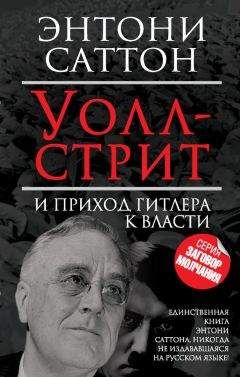Поскольку легковерие является более спокойным душевным состоянием, чем любопытство, постольку мудрость, вращающаяся на поверхности, предпочтительнее мнимой философии, которая проникает в глубину вещей и возвращается с важным открытием, что ничего путного там нет. Два чувства, к которым прежде всего обращаются предметы, суть зрение и осязание. Чувства эти никогда не идут дальше цвета, формы, величины и других качеств, помещённых природой или искусством на поверхности тел; потом является разум — с инструментами для разрезывания, вскрытия, прокалывания, раздробления — и услужливо предлагает доказать, что вещи внутри совсем не такие, как снаружи. Всё это я считаю последней степенью извращения природы, один из вечных законов которой предписывает носить наилучшие украшения сверху. Вот почему, чтобы избавить на будущее время людей от всей этой разорительной анатомии, считаю своим долгом уведомить читателя, что в подобных своих выводах разум совершенно прав и что у большинства телесных сущностей, попадавшихся мне под руку, наружность несравненно привлекательнее того, что у них внутри. Несколько недавних наблюдений ещё больше укрепили меня в этом убеждении. На прошлой неделе я видел женщину с содранной кожей, и вы не можете себе представить, до какой степени её наружность от этого проиграла. Вчера я распорядился, чтобы в моём присутствии обнажили труп одного франта, и был крайне удивлён, убедившись, сколько недостатков, о коих я и не подозревал, скрывается под богатым и нарядным костюмом. Потом я велел вскрыть его мозг, сердце к селезёнку я с каждой операцией убеждался, что по мере углубления внутрь недостатки всё больше умножаются как по числу, так и по величине; отсюда я сделал справедливое умозаключение, что тот философ или прожектёр, которому удастся открыть способ запаивать и замазывать трещины и изъяны природы, окажет человечеству гораздо большую услугу и научит нас более полезному искусству, чем так высоко ценимое в настоящее время искусство вскрывать эти изъяны и выставлять их напоказ. (Есть же такие люди, которые считают анатомию конечной целью медицины!) Поэтому человек, поставленный судьбою и обстоятельствами в благоприятное положение для того, чтобы наслаждаться плодами этого благородного искусства; человек, способный вместе с Эпикуром довольствоваться представлениями, основанными на отражениях и образах, идущих от поверхности вещей к нашим чувствам, — такой человек подобен истинному мудрецу, снимающему с природы сливки, предоставляя философии и разуму лакать жидкое пойло. Это и есть высший предел утончённого блаженства, называемый состоянием человека ловко околпаченного; благостно-спокойное состояние дурака среди плутов.
Но вернёмся к безумию. Соответственно развитой мною выше системе, ясно, что каждый его вид проистекает от избытка паров. И если некоторые роды бешенства удваивают силу мышц, то есть и другие виды, повышающие энергию, деятельность и живость мозга. Обыкновенно эти деятельные духи, завладев мозгом, уподобляются тем, что водятся в других обширных и пустых жилищах: от нечего делать они либо исчезают, унося с собой часть дома, а если остаются — то разбирают его целиком и по кускам вышвыривают в окна. Это мистическое подобие двух главных ветвей безумия, которое иные философы, не вникнув в дело так глубоко, как я, ошибочно объясняют двумя разными причинами, слишком поспешно приписывая первую ветвь недостатку, а вторую — избытку.
Из приведённых мной соображений, мне кажется, ясно вытекает, что всё искусство и ловкость состоит главным образом в том, чтобы найти применение избытку паров, осмотрительно выбрав для этого подходящий момент; при этих условиях они, несомненно, принесут обществу всестороннюю и капитальную пользу. Так один человек, прыгнувший в пропасть, в подходящий для этого момент, становится героем и объявляется спасителем отечества, а другой, совершивший такой же прыжок не вовремя, клеймится безумцем, и это клеймо навсегда остаётся на его памяти. Таково тонкое различие между гибелью Курция, имя которого нас учат произносить с уважением и любовью, и Эмпедокла, которого мы поминаем с ненавистью и презрением. Точно так же обыкновенно считается, что старший Брут только притворялся безумцем и сумасшедшим ради общественного блага. В сущности, он страдал не чем иным, как избытком всё тех же паров, которые долгое время использовал не по назначению; римляне называли это ingenium par negotiis183, что (если перевести как можно точнее) означало род бешенства, попадающего в свою стихию, только когда вы обращаете его на государственные дела.
По всем этим и многим другим, столь же веским, но менее любопытным основаниям, я с удовольствием пользуюсь настоящим случаем, которого давно уже искал, чтобы сделать сэру Э-ду С-ру, сэру К-ру М-ву, сэру Дж-ну Б-зу, эсквайру Дж-ну Г-у и другим патриотам одно весьма благородное предложение, именно: внести билль о назначении над Бедламом и соседними местами особых инспекторов, снабжённых полномочиями требовать к себе лиц, бумаги и протоколы, исследовать достоинства и способности всех питомцев и наставников этого учреждения и наблюдать с величайшей тщательностью за разными их наклонностями и поведением. Этим способом, после должного различения и целесообразного применения их дарований, могут быть созданы замечательные орудия для исполнения различных государственных должностей. . . . . .гражданских и военных, для чего нужно только пользоваться скромно предлагаемыми мной методами. И я надеюсь, что благосклонный читатель отнесётся сочувственно к усердным моим стараниям в этом важном деле, приняв во внимание всегдашнее моё уважение к почтенному бедламскому обществу, коего я одно время имел счастье состоять недостойным членом.
Нет ли в этом заведении питомца, который бы рвал в клочки соломенную подстилку, ругался и богохульствовал, грыз железную решётку с пеной у рта и выплёскивал свой ночной горшок в физиономию зрителей? Пусть достопочтенные господа инспекторы дадут ему драгунский полк и пошлют во Фландрию вместе с прочими. Нет ли там другого питомца, который бы трещал без умолку, брызгал слюнями и кипятился всё в одном тоне, не расчленяя своей речи на фразы и периоды? Какие замечательные дарования гибнут здесь! Немедленно снабдите его зелёной папкой с бумагами, суньте ему в карман три пенса184 и отправьте в Вестминстер-Холл. Есть там и третий, сосредоточенно вымеряющий свою конуру, человек проницательный и глубокомысленный, хотя и обречённый на пребывание в темноте, вследствие чего, как у Моисея, ессе cornuta185 erat ejus facies186. Он прохаживается чинным шагом, степенно и церемонно выпрашивает у вас монетку; много говорит о трудных временах, налогах и вавилонской блуднице; запирает деревянное окошечко своей камеры аккуратно в восемь часов; видит во сне пожары, ограбление лавок, придворных заказчиков и привилегированные места. Какую же великолепную фигуру составят все эти выдающиеся качества, если их обладатель будет послан в Сити к своим собратьям? Взгляните на четвёртого, погружённого в беседу с самим собой и по временам грызущего ногти; на лице его застыло выражение деловитости и озабоченности, иногда он начинает носиться по камере, вперив глаза в бумагу, которую держит в руках; он времени зря не теряет, немного туг на ухо, сильно близорук и начисто лишён памяти; он вечно спешит, завален делами и неподражаем в искусстве с важной миной шептать на ухо пустяки; обожает междометия и любит откладывать неотложные дела; так охоч давать своё слово каждому, что никогда его не держит; позабыл значение самых обыкновенных слов, хотя отлично помнит их звучание; очень подвержен поносу — вследствие чего ему то и дело надо отлучаться. Если вы подойдёте к его решётке в минуту, когда он бывает благодушен: Сударь, обращается он к вам, подайте пенс, а я спою вам песенку; только прежде подайте пенс. (Отсюда распространённая поговорка и ещё более распространённый обычай: выбросить деньги за песенку.) Чем не описание полной системы придворного искусства во всех его разветвлениях? И такие богатые задатки пропадают даром, не находя должного применения! Подойдите теперь к отверстию другой камеры, предварительно закрыв нос, и вы увидите угрюмого, мрачного, грязного и неопрятного человека, копающегося в своём кале и полощущегося в своей моче. Лучшая часть его пищи — вещество, извлечённое из собственных экскрементов, которые, испаряясь, совершают непрерывный круговорот и в заключение возвращаются в первоначальное состояние. Цвет лица его грязно-жёлтый, жиденькая бородёнка точь-в-точь как его пища, когда она впервые из него извергается; он похож на тех насекомых, которые, родившись в навозе и будучи им вскормлены, заимствуют у него цвет и запах. Питомец этого отделения очень скуп на слова, но зато очень щедро угощает своим дыханием; он протягивает руку за подаянием и, получив его, тотчас же возвращается к прежним занятиям. Разве не удивительно, что общество Варвик-Лейна приложило так мало стараний для приобретения столь полезного члена, который, если судить по этой его деятельности, мог бы стать величайшим украшением знаменитой корпорации? Другой питомец пыжится перед вами, фыркает, таращит на вас глаза и весьма благосклонно протягивает вам руку для поцелуя. Смотритель просит вас не пугаться этого профессора, уверяя, что он не причинит никакого вреда; ему одному разрешено выходить в переднюю, и местный оратор разъясняет вам, что эта напыщенная персона — портной, который так заважничал, что ума лишился. Этот выдающийся учёный украшен ещё множеством редких качеств, но сейчас я не буду о них распространяться . . . . . . . . . Насторожите ваши уши187 . . . . . . . . . . . . . . . . . Я совсем попал впросак, если бы оказалось, что его тогдашние манеры и вид не были совершенно естественны и персона эта не чувствовала себя в родной стихии.