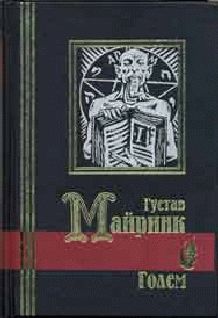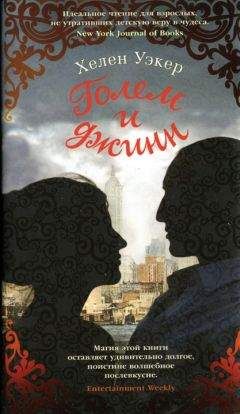И когда я запинающимся от усталости языком ответил отрицательно, он протянул мне ладонь, и буквы засветились на моей груди, сперва латинские: Chabrat zereh aur bocher 06 .
потом медленно обратившиеся в совершенно мне незнакомые.
…И я впал в глубокий сон без сновидений, какого не знал с той ночи, когда Гиллель отверз мои уста.
06 Эта еврейская надпись в переводе означает: «Союз питомцев утреннего рассвета».
–
Стремительно пробежали часы последних дней. Я едва успевал пообедать.
Непреодолимое влечение к работе держало меня прикованным к столу с утра до вечера.
Камея была закончена, и Мириам радовалась ей, как ребенок.
И буква «I» в книге «Ibbur» была исправлена.
Я откинулся назад и стал спокойно припоминать маленькие события последних часов.
Услуживающая мне старая женщина на утро после грозы влетела ко мне в комнату с известием, что ночью обрушился каменный мост.
Странно: обрушился! Быть может, как раз в то мгновенье, когда зерна… нет, нет, не думать об этом! Иначе случившееся получит характер реального, а я заранее решил похоронить это в груди, пока оно само не проснется… только бы не дотрагиваться.
Недавно еще я ходил по этому мосту, смотрел на каменные статуи – а теперь вековой мост этот лежит в развалинах.
Мне было больно, что моя нога уже не вступит на него.
– Если даже его и отстроят, все-таки это уж будет не тот старый, таинственный каменный мост.
Целыми часами, работая над камеей, я думал на ту же тему, и как-то само собой, точно я никогда не забывал об этом, живо припомнилось мне: часто ребенком и потом позднее я любовался статуей святой Луитгарды и другими статуями, погребенными ныне в бушующих водах.
Целый ряд маленьких вещей, милых и родных мне с детского возраста, снова появился предо мной: отец, мать, многие из школьных товарищей. Вот только дома, где я жил, не мог я вспомнить.
Я знал, что внезапно, в тот день, когда я меньше всего буду ждать этого, он встанет перед моим воображением, и я уже заранее испытывал наслаждение.
Сознание, что все во мне располагалось так естественно и так просто, приводило меня в восторг.
Когда третьего дня я вынул из шкатулки книгу «Ibbur», ничто не показалось мне в ней удивительным… просто старая пергаментная книга, украшенная дорогими инициалами… совсем естественная вещь.
Я не мог понять, почему она показалась мне когда-то такой необычно таинственной.
Она была написана на еврейском языке, которого я совершенно не понимал.
Когда же придет за ней назнакомец?
Жизнерадостность, незаметно влившаяся в меня во время работы, снова пробудилась во всей своей живительной свежести и разогнала ночные видения, предательски напавшие на меня.
Быстро взял я портрет Ангелины,– надпись на нем была мною срезана… Я поцеловал его.
Это было глупо и бессмысленно, но почему когда-нибудь не помечтать о счастье, не ухватиться за сверкающее мгновение, не порадоваться ему, как мыльному пузырю?
Разве невозможно, чтоб исполнилось предчувствие тоскующего сердца? Разве никак не может случиться, чтобы я сразу стал знаменитостью? Равным ей, хоть и не по происхождению? По крайней мере, равным доктору Савиоли? Я подумал о камее Мириам: если бы и следующие камеи мне удались, как эта! Нет сомнения, что самые выдающиеся художники всех времен не создали ничего лучшего.
Допустим простую случайность: внезапно умирает супруг Ангелины.
Меня бросало то в жар, то в холод: маленькая случайность – и моя надежда, дерзкая надежда, становится реальной. На тоненькой ниточке, которая ежеминутно может оборваться, висит счастье, что должно упасть в мои руки.
Разве тысячи раз уже не случались со мной чудеса? Вещи, о самом существовании которых человечество и не знает.
И разве не чудо, что за несколько недель во мне пробудился художественный талант, который и теперь уже высоко подымает меня над уровнем посредственности?
А ведь я был только в начале пути!
Разве я не имел права на счастье?
И разве мистицизм исключает возможность желаний?
Я подавил в себе реальность, только бы часок помечтать, минуту, один миг!
Я грезил с открытыми глазамм.
Драгоценные камни на моем столе вырастали и окружили меня разноцветными водопадами. Опаловые деревья стояли группами и излучали волны небесного цвета, а небо, точно крылья гигантской тропической бабочки, отливало сияющей лазурью, как необозримые луга, напоенные знойным ароматом лета.
Я чувствовал жажду, и я освежился в ледяном потоке ручья, бежавшего в скалах из светлого перламутра.
Горячий ветер пронесся по склонам, осыпанным цветами, и опьянил меня запахом жасмина, гиацинтов, нарциссов и лавра…
Невыносимо! Невыносимо! Я отогнал видение. Меня томила жажда.
Это были райские муки.
Я быстро открыл окно и подставил голову под вечерний ветер. В нем чувствовался аромат наступавшей весны…
Мириам!
Я думал о Мириам. Она чуть не упала от возбуждения, рассказывая мне, что случилось чудо – настоящее чудо: она нашла золотую монету в булке хлеба, которую булочник положил через решетку на кухонное окно…
Я схватился за кошелек! – Еще, пожалуй, не поздно, я успею и сегодня снова наколдовать ей дукат! Она ежедневно приходила ко мне, чтоб развлекать меня, как она выражалась, но почти не разговаривала, так переполнена она была «чудом». Это событие взбудоражило ее до глубины души. У меня кружилась голова при мысли о том, как она иногда вдруг, без всяких видимых причин, смертельно бледнела под действием одного лишь воспоминания. В моем ослеплении я, может быть, наделал вещей, последствия которых переходили всякую границу.
И когда я вспомнил последние неясные слова Гиллеля и привел их в связь с этим, мороз пробежал у меня по коже.
Чистота намерений не могла служить мне извинением. Цель не оправдывает средства, это я знал.
Что если стремление помочь было наружно чистым? Не скрывается ли в нем тайная ложь: себялюбивое, бессознательное желание наслаждаться ролью спасителя?
Я перестал понимать себя самого.
То, что я смотрел на Мириам слишком поверхностно, было несомненно.
Уже как дочь Гиллеля, она должна была быть не такой, как другие девушки.
И как посмел я глупо вторгнуться в ее внутренний мир, корый возвышался над моим, как небо над землей?
Уже самые черты ее лица, гораздо более напоминавшие – только несколько одухотвореннее – эпоху шестой египетской династии, чем наши дни, с их рассудочными типами,– должны были предостеречь меня от этого.
«Внешность обманывает только круглого дурака,– читал я где-то однажды.– Как верно! как верно!»
Мы с Мириам были теперь друзьями, не признаться ли ей, что это я тайком каждый день вкладывал ей в хлеб дукат?
Удар был бы слишком внезапным. Оглушил бы ее.
На это я не мог решиться – надо было действовать осторожнее.
Смягчить как-нибудь чудо? Вместо того, чтоб всовывать монету в хлеб, класть ее на лестницу, чтоб она должна была найти ее, когда откроет дверь, и так далее? Можно придумать что-нибудь новое, менее разительное, путь, который, мало-помалу вернул бы ее от чудесного к будничному, утешал я себя.
Да! Это самое правильное.
Или разрубить узел. Признаться ее отцу и просить совета?
Краска стыда бросилась мне в лицо. Этот шаг я успею сделать, когда все остальные средства окажутся негодными.
Но немедленно приступить к делу, не терять ни минуты времени.
Мне пришла в голову блестящая мысль: надо заставить Мириам сделать что-нибудь совсем необычное – вывести ее на несколько часов из привычной обстановки, дать ей новые впечатления.
Взять экипаж и поехать покататься с ней. Кто узнает нас, если мы поедем не еврейским кварталом?
Может быть, ее заинтересует обвалившийся мост?
Пусть поедет с ней старик Цвак или кто-нибудь из подруг, если она найдет неудобным поехать со мной.
Я твердо решил не принимать никаких возражений.
На пороге я чуть не сбил с ног кого-то.
Вассертрум!
Он, очевидно, подсматривал в замочную скважину, потому что он стоял согнувшись, когда я наскочил на него.
– Вы ко мне? – неприязненно спросил я.
Он пробормотал в извинение несколько слов на своем невозможном жаргоне и ответил утвердительно.
Я попросил его войти и сесть, но он остановился у стола и начал нервно теребить поля своей шляпы. В его лице и в каждом движении его сквозила глубокая враждебность, которую он напрасно старался скрыть.
Никогда еще не видал я этого человека в такой непосредственной близости. В нем отталкивало не ужасное уродство, а что-то другое, неуловимое. Уродство же собственно настраивало меня даже сочувственно: он представлялся мне созданием, которому при его рождении сама природа с отвращением и с яростью наступила на лицо.
«Кровь»,– как удачно определил Харусек.