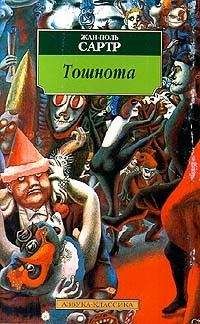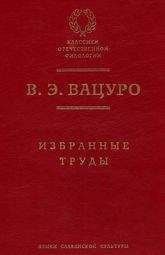Безвременная смерть его сына Октава, который в юном возрасте поступил в Политехнический институт и из которого отец хотел сформировать начальника, нанесло Оливье Блевиню жестокий удар. Так и не оправившись от него, он умер два года спустя, в феврале 1908 года.
Сборники речей: «Нравственные силы» (1894 г., распродан); «Право карать» (1900 г., все речи, вошедшие в этот сборник, были произнесены в связи с делом Дрейфуса; распродан), «Воля» (1902 г., распродан). После смерти Блевиня последние его речи и некоторые письма, адресованные близким, были включены в сборник под названием «Labor improbus»[13] (издательство «Плон», 1910 г.). Иконография: существует великолепный портрет Блевиня кисти Бордюрена в музее Бувиля».
Великолепный портрет – что ж, согласен. У Оливье Блевиня были маленькие черные усики, и его желтоватое лицо слегка напоминало лицо Мориса Барреса. Они несомненно знали друг друга – сидели на одних и тех же скамьях. Но оувильский депутат был лишен небрежной раскованности президента Лиги патриотов. Он был прямолинеен как дубина и явно выламывался из холста. Глаза его сверкали – зрачок был черный, роговица красноватая. Он поджал свои маленькие мясистые губы и приложил правую руку к груди.
Как долго мне не давал покоя этот портрет! Блевинь казался мне то слишком крупным, то слишком маленьким. Но сегодня я уже понимал, в чем дело.
Правду я узнал, листая «Бувильского сатирика». Номер от 6 ноября 1905 года был целиком посвящен Блевиню. Блевинь был изображен на обложке журнала – крохотная фигурка, уцепившаяся за шевелюру отца Комба. Надпись гласила: «Вошь в гриве льва». Первая же страница все объясняла – в Оливье Блевине было всего метр пятьдесят три. Над его ростом издевались, а заслышав его квакающий голос, вся Палата не раз покатывалась от хохота. Уверяли, что он носит ботинки с резиновыми каблуками. Зато мадам Блевинь, урожденная Паком, была здоровенной кобылой. «Вот уж когда воистину уместно сказать: дал половину, взял вдвойне», – писал хроникер.
Метр пятьдесят три! Все ясно. Бордюрен старательно окружил Блевиня предметами, которые не могли умалить его рост: пуф, низкое кресло, этажерка с томиками в двенадцатую долю листа, маленькая персидская ширма. Но сам Блевинь был на полотне такого же роста, как висевший с ним рядом Жан Парротен, а оба холста – одинакового размера. В результате ширма на одном из них оказалась почти такой же высокой, как громадный стол на другой, а пуф доставал бы Парротену до плеча. Глаз невольно сопоставлял оба портрета – это-то меня и смущало.
А теперь меня разбирал смех: метр пятьдесят три! Если бы я хотел поговорить с Блевинем, мне пришлось бы наклониться или согнуть колени. Теперь меня уже не удивляло, почему он так неукротимо задирал нос, – судьба людей такого роста всегда решается в нескольких сантиметрах над их головой.
Удивительная сила искусства! От этого коротышки с писклявым голосом потомству не останется ничего, кроме грозного лица, величественного жеста и кровавых бычьих глаз. Студент, напуганный Коммуной, ничтожный и злобный депутат – все это унесла с собой смерть. Но президента «Клуба Друзей Порядка», глашатая Нравственных сил, обессмертила кисть Бордюрена.
– Ах, бедный студентик!
Этот сдавленный крик вырвался у дамы в трауре. Под портретом Октава Блевиня, «сына предыдущего», чья-то благочестивая рука начертала такие слова:
«Скончался студентом Политехнического института в 1904 году».
– Скончался! Как сын Аронделя. У него такое умное лицо. Как, должно быть, горевала его мама! Слишком уж большая нагрузка в этих знаменитых учебных заведениях. Мозг не отдыхает даже во время сна. Вообще-то мне нравятся треуголки политехников, в них есть шик. Кажется, их называют «плюмажи»?
– Нет, плюмажи – это только в Сен-Сире.
Я тоже стал рассматривать студента политехникума, который умер молодым. Достаточно было взглянуть на его восковое лицо и благонравные усы, чтоб предсказать ему скорую смерть. Впрочем, он предвидел свою участь: в его устремленных вдаль светлых глазах читалась какая-то покорность судьбе. Однако он высоко держал голову: в своей студенческой форме он представлял французскую армию.
Tu Marcellus eris! Manibus date lilia plenis…[14]
Сорванная роза, умерший студент-политехник – что может быть печальнее?
Я неторопливо шел по длинной галерее, на ходу приветствуя почтенные лица, выступавшие из темноты: мсье Боссуар, председатель коммерческого суда; мсье Фаби, председатель административного совета самоуправления порта Бувиль; коммерсант мсье Буланж со своим семейством; мэр Бувиля, мсье Раннекен; уроженец Бувиля мсье де Люсьен – французский посол в Соединенных Штатах и поэт; неизвестный в форме префекта, преподобная Мария-Луиза, начальница Большого Сиротского Приюта; мсье и мадам Терезон, мсье Тибу-Гурон – генеральный президент экспертного совета; мсье Бобо – главный управляющий военно-морского ведомства, мсье Брион, Минетт, Грело, Лефебр, доктор Пен и его супруга, сам Бордюрен, написанный его сыном Пьером Бордюреном. Ясные, невозмутимые взгляды, тонкие черты, узкие рты: громадный и терпеливый мсье Буланж, преподобная Мария-Луиза – воплощение предприимчивого благочестия. Мсье Тибу-Гурон был суров к себе и к другим. Мадам Терезон стойко боролась с тяжелым недугом. Бесконечно усталое выражение губ выдавало ее страдания. Но ни разу эта благочестивая женщина не сказала: «Мне плохо». Она побеждала болезнь; она составляла меню благотворительных обедов и председательствовала на них. Иногда посредине какой-нибудь фразы она медленно закрывала глаза, и лицо ее становилось безжизненным. Но эта слабость длилась не более секунды; мадам Терезон открывала глаза и продолжала начатую фразу. И в благотворительных кружках шептались: «Бедная мадам Терезон! Она никогда не жалуется».
Я прошел от начала до конца весь длинный зал Бордюрена-Ренода. Потом обернулся. Прощайте, прекрасные, изысканные лилии, покоящиеся в маленьких живописных святилищах, прощайте, прекрасные лилии, наша гордость и оправдание нашего бытия. Прощайте, Подонки.
Я больше не пишу книги о Рольбоне – конечно, писать я больше не могу. Куда я дену свою жизнь?
Было три часа. Я сидел за столом, рядом лежала связка писем, которые я похитил в Москве, я писал:
«Усердно распускались самые зловещие слухи. Очевидно, маркиз де Рольбон попался на эту удочку, поскольку в письме от 13 сентября сообщил племяннику, что составил завещание».
Рольбон был тут: пока я еще не окончательно воссоздал маркиза в его историческом бытии, я наделял его моей собственной жизнью. Я ощущал его как теплый комок где-то в недрах живота.
И вдруг я подумал, что мне непременно возразят: «Рольбон де вовсе не был откровенен со своим племянником – в случае неудачи заговора он хотел в глазах Павла I использовать его как свидетеля защиты. Вполне возможно, что маркиз придумал историю с завещанием, чтобы выглядеть этаким доверчивым простаком.
Возражение было пустяковое – оно не стоило выеденного яйца. Однако я погрузился в мрачное раздумье. Я вдруг сразу увидел перед собой толстуху официантку из кафе «У Камиля», блуждающий взгляд мсье Ахилла, зал, в котором я так явственно почувствовал, что затерян, покинут в настоящем. И устало сказал себе: «Каким образом я, у которого не хватает сил удержать собственное прошлое, надеюсь спасти прошлое другого человека?»
Я взял перо и попытался вернуться к работе; хватит с меня всех этих размышлений о прошлом, о настоящем, об окружающем мире. Я хочу одного – чтобы мне дали спокойно дописать мою книгу.
Но когда мой взгляд упал на чистый блокнот, меня вдруг поразил его вид и я, с застывшим в воздухе пером, уставился на эту ослепительную бумагу: какая она плотная, броская, как ощутимо ее сиюминутное присутствие. В ней нет ничего, кроме сиюминутного настоящего. Буквы, которые я вывел на ней, еще не просохли, но они уже мне не принадлежат.
«Усердно распускались самые зловещие слухи…»
Эту фразу придумал я, вначале она была частицей меня самого. Теперь она вписалась в бумагу, объединилась с ней против меня. Я больше ее не узнавал. Я даже не мог ее заново продумать. Она была там, передо мной, и тщетно было искать в ней признаков ее изначального происхождения. Ее мог написать любой другой человек. НО И Я, я сам, не был уверен, что ее написал я. Буквы уже не блестели, они просохли. Исчезло и это – от их мимолетного блеска не осталось следа.
Я в тоске огляделся вокруг: настоящее, ничего, кроме сиюминутного настоящего. Легкая или громоздкая мебель, погрязшая в своем настоящем, стол, кровать, зеркальный шкаф – и я сам. Мне приоткрывалась истинная природа настоящего: оно – это то, что существует, а то, чего в настоящем нет, не существует. Прошлое не существует. Его нет. Совсем. Ни в вещах, ни даже в моих мыслях. Конечно, то, что я утратил свое прошлое, я понял давно. Но до сих пор я полагал, что оно просто оказалось вне поля моего зрения. Прошлое казалось мне всего лишь выходом в отставку, это был иной способ существования, каникулы, праздность; каждое событие, сыграв свою роль до конца, по собственному почину послушно укладывалось в некий ящик и становилось почетным членом в кругу собратьев-событий – так мучительно было представить себе небытие. Но теперь я знал: все на свете является только тем, чем оно кажется, а ЗА НИМ… ничего.