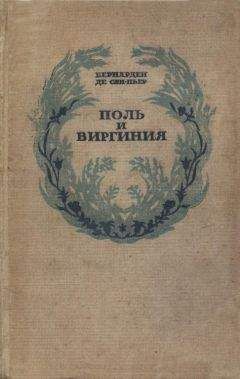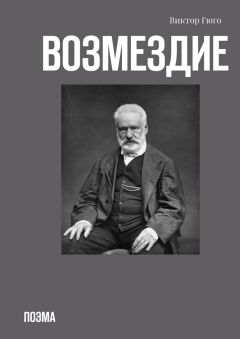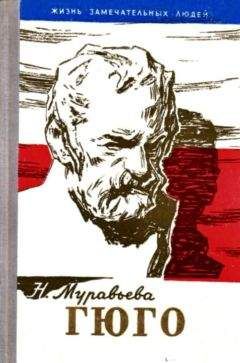Вотъ на какомъ несокрушимомъ основаніи воздвигнется зданіе, которое увѣнчаетъ бракъ высокородной дѣвицы Ульрики съ барономъ Торвикомъ.
Интимный разговоръ двухъ злодѣевъ никогда не бываетъ продолжителенъ, такъ какъ то, что остается въ нихъ человѣческаго быстро ужасаетъ адскую сторону ихъ натуры. Когда двѣ извращенныхъ души открываются другъ другу во всей ихъ безстыдной наготѣ, взаимное безобразіе возмущаетъ ихъ. Преступленіе приходитъ въ ужасъ отъ преступленія, и два злодѣя, съ цинизмомъ сообщая другъ другу глазъ на глазъ свои страсти, удовольствія, выгоды, представляютъ одинъ для другаго страшное заркало. Ихъ собственная низость срамитъ ихъ въ другомъ; ихъ смущаетъ ихъ собственная гордость, страшитъ ихъ собственное ничтожество, и они не пытаются бѣжать, не пытаются не признавать себя въ имъ подобномъ, такъ какъ ихъ ненавистная связь, ихъ ужасающее подобіе, ихъ гнусное сходство неустанно пробуждаетъ въ нихъ голосъ, неутомимо твердящiй о томъ ихъ истомленному слуху. Какъ бы не былъ секретенъ ихъ разговоръ, онъ всегда имѣетъ двухъ неумолимыхъ свидѣтелей: Бога, котораго они не видятъ и совѣсть, которая даетъ имъ себя чувствовать.
Конфиденціальныя сообщенія Мусдемона тѣмъ болѣе были тягостны для графа, что его клевретъ безпощадно удѣлялъ патрону половину участія въ совершенныхъ или замышляемыхъ злодѣяніяхъ. Многіе льстецы предпочитаютъ выгораживать вельможъ, хотя по наружности изъ темныхъ дѣлишекъ, принимаютъ на себя всю отвѣтственность и даже часто оставляютъ патрону постыдное утѣшеніе, что онъ какъ будто противился выгодному для него преступленію. Мусдемонъ съ утонченной хитростью дѣйствовалъ какъ разъ обратно. Онъ хотѣлъ какъ можно рѣже являться въ роли совѣтника, предпочитая роль повинующагося. Онъ зналъ душу своего патрона такъ же хорошо, какъ патронъ зналъ его душу, и онъ никогда не компрометировалъ себя, не компрометируя въ то же время и графа. Послѣ головы Шумахера, первая, которую графъ страстно желалъ видѣть на плахѣ, была голова Мусдемона, и послѣдній зналъ это, какъ будто самъ патронъ сообщилъ ему объ этомъ; графъ же догадывался, что желаніе его не тайна для Мусдемона.
Когда графъ получилъ нужныя для него свѣдѣнія, ему оставалось только отпустить Мусдемона.
— Мусдемонъ, — сказалъ онъ, милостиво улыбаясь: — вы самый преданный, самый ревностный изъ моихъ подчиненныхъ. Все идетъ отлично и этимъ я обязанъ вашему старанію. Я дѣлаю васъ личнымъ секретаремъ великаго канцлера.
Мусдемонъ низко поклонился.
— Это еще не все, — продолжалъ графъ: — я въ третій разъ буду просить для васъ ордена Даннеброга; но опять таки опасаюсь, что ваше происхожденіе, ваше позорное родство…
Мусдемонъ покраснѣлъ, поблѣднѣлъ и, снова поклонившись, скрылъ отъ графа свое смущеніе.
— Ступайте, — продолжалъ графъ, протягивая ему руку для поцѣлуя: — ступайте, господинъ секретарь, составьте ваше прошеніе. Быть можетъ оно застанетъ короля въ добромъ настроеніи духа.
— Дастъ ли его величество свое согласіе, или нѣтъ, а я глубоко признателенъ и горжусь милостями вашей свѣтлости.
— Поторопитесь же, мой милый, такъ какъ мнѣ надо ѣхать. Необходимо также собрать точныя свѣдѣнія объ этомъ Ганѣ.
Поклонившись въ третій разъ, Мусдемонъ открылъ дверь.
— Ахъ, да, — сказалъ графъ: — чуть не забылъ… Въ качествѣ личнаго секретаря напишите въ мою канцелярію, чтобы прислана была отставка синдику Левига, который компрометируетъ свой санъ въ округѣ, пресмыкаясь передъ чужестранцами, которыхъ совсѣмъ не знаетъ.
— Право, милостивый господинъ, намъ слѣдуетъ сходить на поклоненіе въ Линрасскую пещеру. Кто бы могъ думать, что этотъ отшельникъ, котораго я проклиналъ, какъ адскаго духа, окажется нашимъ ангеломъ-хранителемъ, что копье, каждую минуту просившее нашей жизни, какъ мостъ поможетъ намъ перешагнуть бездну.
Въ такихъ цвѣтистыхъ, довольно комичныхъ выраженіяхъ Бенигнусъ Спіагудри выражалъ Орденеру свою радость, удивленіе и свою признательность къ таинственному отшельнику. Оба путешественника давно уже покинули проклятую башню. Мы встрѣчаемъ ихъ уже довольно далеко отъ деревни Виглы, съ трудомъ пробирающихся по горной дорогѣ, пересѣкаемой лужами и загроможденной большими камнями, которыхъ стремительный, бурный потокъ оставилъ на сырой вязкой почвѣ.
Солнце еще не взошло на горизонтѣ; только кустарникъ, обрамлявшій по сторонамъ скалистую дорогу, рисовался черными фестонами на бѣлесоватомъ небосклонѣ; окружающіе предметы являлись взору еще безъ красокъ, но постепенно принимая свои очертанiя на тускломъ и какъ бы густомъ свѣтѣ, который утреннія сумерки сѣвера разливали въ холодном, утреннемъ туманѣ.
Орденеръ хранилъ молчаніе, уже нѣсколько минутъ погруженный въ сладкое забытье, которому не мѣшаетъ иногда машинальное движеніе ходьбы. Онъ не смыкалъ глазъ со вчерашняго дня, когда до своего возвращенія въ Мункгольмъ успѣлъ немного отдохнуть въ рыбачьей лодкѣ, стоявшей на якорѣ въ Дронтгеймской гаванѣ. Между тѣмъ какъ тѣло его подвигалось къ Сконгену, душа стремилась къ Дронтгеймскому заливу, въ ту мрачную темницу, въ ту печальную башню, въ стѣнахъ которой томилось единственное существо въ мірѣ, съ которомъ онъ могъ дѣлить мечты о счастіи и надеждѣ. Когда онъ бодрствовалъ, мечты объ Этели не покидали его ни на минуту. Во снѣ эти мечты, принимая фантастическіе размѣры, озаряли его грезы. Во снѣ, въ этой второй жизни, когда душа живетъ одна, когда физическая натура исчезаетъ со всѣмъ ея чувственнымъ зломъ, онъ видѣлъ свою возлюбленную не въ большей чистотѣ, не болѣе прекрасною: но свободною, счастливою, принадлежащею ему.
Однако на дорогѣ въ Сконгенъ такое забытье, такое оцѣпенѣніе не могло быть полнымъ; время отъ времени рытвина, камень, древесная вѣтка, встрѣчавшіеся на его пути, безжалостно возвращали его изъ міра идеальнаго въ міръ реальный. Онъ поднималъ голову, раскрывалъ свои утомленные глаза, съ сожалѣніемъ покидая свое восхитительное небесное странствіе для труднаго земного пути, гдѣ его изчезнувшія иллюзіи вознаграждались лишь мыслью о томъ, что у сердца его хранится локонъ Этели, въ ожиданіи пока сама она всецѣло будетъ принадлежать ему. Эта мысль снова вызывала въ его воображеніи милый фантастическій образъ и невольно погружался онъ не въ забытье, а въ какія то неопредѣленныя, упорныя грезы.
— Милостивый господинъ, — повторилъ Спіагудри болѣе громкимъ голосомъ, который вмѣстѣ съ толчкомъ о древесный стволъ вывелъ Орденера изъ задумчивости: — не бойтесь ничего. Отшельникъ по выходѣ изъ башни повелъ полицейскихъ направо, и теперь мы настоль далеко отъ нихъ, что можемъ свободно разговаривать. Конечно, до сихъ поръ благоразумнѣе было молчать.
— Ну, старина! Ты хватилъ черезъ край съ твоимъ благоразуміемъ, — замѣтилъ Орденеръ, зѣвая: — Прошло по меньшей мѣрѣ три часа, какъ мы потеряли изъ виду башню и полицейскихъ.
— Весьма возможно, милостивый государь, но благоразуміе никогда не вредитъ. Вообразите, что бы вышло, если бы я отозвался, когда начальникъ этихъ адскихъ капраловъ спросилъ Бенигнуса Спіагудри такимъ тономъ, какимъ Сатурнъ требовалъ себѣ на съѣденіе своего новорожденнаго сына. Гдѣ находился бы я теперь, благородный патронъ, если бы въ ту критическую минуту не прибѣгъ къ благоразумному молчанію?
— О, старина! Мнѣ сдается, что въ ту минуту даже щипцами нельзя было бы вытянуть у тебя твоего имени.
— Что-жъ въ томъ худого? Скажи я хоть слово, отшельникъ, да благословятъ его святой Госпицій и святой Усбальдъ-пустынникъ! — отшельникъ не успѣлъ бы спросить начальника полицейскихъ, не изъ солдатъ ли Мункгольмскаго гарнизона набрана его команда — пустой вопросъ, предложенный съ единственной цѣлью выиграть время. Обратили ли вы вниманіе, молодой человѣкъ, съ какой странной улыбкой, послѣ утвердительнаго отвѣта безтолковаго сыщика, отшельникъ пригласилъ его послѣдовать за нимъ, говоря, что ему извѣстно убѣжище бѣглаго Бенигнуса Спіагудри.
Тутъ смотритель Спладгеста умолкъ на минуту, какъ бы для того, чтобы собраться съ духомъ, и продолжалъ тономъ трогательнаго энтузіазма:
— Добрый священнослужитель! Достойный, добродѣтельный ошельникъ, осуществляющій на дѣлѣ правила христіанскаго человѣколюбія и евангельскаго милосердія! А я то! Что могло испугать меня въ его наружности, надо сознаться довольно зловѣщей, но за то скрывающей столь прекрасную душу! Примѣтили вы, мой благородный патронъ, съ какимъ особеннымъ выраженіемъ сказалъ онъ мнѣ: до свиданія! уводя полицейскихъ? При другихъ обстоятельствахъ оно встревожило бы меня; но ужъ это не вина благочестиваго, достойнаго отшельника. Очевидно, уединеніе придаетъ голосу такой странный оттѣнокъ, потому что я знаю — Бенигнусъ значительно понизилъ голосъ — другого отшельника, это ужасное существо, которое… Но нѣтъ, изъ уваженія къ почтенному Линрасскому отшельнику, я не могу рѣшиться на такое гнусное сравненіе. Въ перчаткахъ тоже нѣтъ ничего необычайнаго, погода довольно прохладная, чтобы ихъ носить; а его соленое питье не удивляетъ меня болѣе. Католическіе пустынножители налагаютъ на себя самые странные обѣты; это одинъ изъ нихъ и въ подтвержденіе приведу вамъ, милостивый государь, стихъ знаменитаго Урензіуса, инока Кавказской горы: