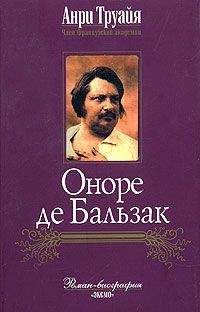— Куда он уходит? — спросила Цезарина отца, стараясь выказать безразличие.
— Он откроет свою торговлю на улице Сенк-Диаман! Да поможет ему бог! — ответил Бирото, и восклицание его не было понято ни матерью, ни дочерью.
Когда Бирото испытывал какое-либо затруднение нравственного свойства, он вел себя как насекомое перед препятствием: он обходил его с одной или с другой стороны; так и тут он переменил разговор, решив позднее поговорить с женой о Цезарине.
— Я рассказал дяде о твоих страхах и опасениях по поводу Рогена, он только рассмеялся, — заявил он Констанс.
— Никогда не передавай другим того, о чем мы говорим с тобой наедине, — возмутилась Констанс. — Бедняга Роген, возможно, честнейший в мире человек, ему пятьдесят восемь лет, и он, наверное, больше не думает о...
Она сразу замолкла, заметив, что Цезарина внимательно слушает, и взглядом указала Цезарю на дочь.
— Значит, я правильно поступил, заключив сделку, — заметил Бирото.
— На то ты и хозяин, — ответила она.
Такой ответ всегда выражал ее молчаливое согласие с планами мужа. Цезарь взял Констанс за руку и поцеловал ее в лоб.
— Вот что, — крикнул парфюмер, спускаясь вниз и обращаясь к приказчикам, — закрывайте лавку в десять часов. Вы все должны мне помочь! За ночь мы перенесем мебель со второго на третий этаж. Надо убрать все до последней вещи, чтобы, как говорится, очистить на завтра поле деятельности для архитектора. Попино ушел, не предупредив меня, — сказал Цезарь, не видя его. — Да, ведь он сегодня здесь не ночует, я и забыл. «Он отправился, подумал Цезарь, — записать замечания господина Воклена, а может быть, снять помещение для магазина».
— Мы знаем, хозяин, почему вы переделываете квартиру, — заявил Селестен от имени двух других приказчиков и Раге, стоявших за его спиной. — Позвольте нам, сударь, поздравить вас с честью, которая является честью для всех нас... Попино сказал нам, что вам, сударь...
— Да, голубчики, что скрывать, мне пожаловали орден. Так вот, я приглашаю друзей, чтобы отпраздновать освобождение Франции и отметить награждение меня орденом Почетного легиона. Быть может, я заслужил эту награду и монаршую милость, ведь я был членом коммерческого суда, я сражался за Бурбонов, которых я защищал... в вашем возрасте, тринадцатого вандемьера на ступенях церкви святого Роха... Черт побери, я был ранен Наполеоном, именуемым императором. Я был ранен в бедро, и госпожа Рагон делала мне перевязки. Будьте же отважны, и вас вознаградят. Видите, дети мои, нет худа без добра.
— На улицах больше сражаться не будут, — заметил Селестен.
— Надо надеяться, — сказал Бирото и, воспользовавшись случаем, произнес целую речь, а в заключение пригласил приказчиков на бал.
Перспектива бала воодушевила трех приказчиков, Раге и Виржини и придала им ловкость эквилибристов. Нагруженные мебелью, они сновали взад и вперед по лестницам, ничего не сломав, ничего не перевернув. К двум часам ночи все было закончено. Цезарь с женой легли спать на третьем этаже. В комнате Попино устроились Селестен и второй приказчик. Четвертый этаж на время превратили в мебельный склад.
Весь во власти неослабевающего нервного возбуждения, которое воспламеняет сердца честолюбцев и влюбленных, лелеющих великие замыслы, обычно мягкий и спокойный Попино после обеда не мог устоять на одном месте, словно породистая лошадь перед скачками.
— Что с тобой творится? — спросил его Селестен.
— Какой день выдался сегодня, дружище! Я начинаю самостоятельное дело, — сказал Попино на ухо Селестену, — а господин Бирото награжден орденом.
— Счастливец! Тебе помогает хозяин, — воскликнул Селестен.
Ничего не ответив, Попино исчез, словно увлекаемый буйным ветром, ветром успеха!
— Счастливец? — сказал приказчик, складывавший перчатки дюжинами, своему соседу, проверявшему этикетки. — Просто хозяин заметил, что Попино строит глазки мадмуазель Цезарине; ну, а хозяин-то наш хитер и решил отделаться от Ансельма. Отказать ему — неудобно, из-за родственников. А наш Селестен принимает эту хитрость за великодушие.
Ансельм Попино спустился по улице Сент-Оноре и помчался по улице Дез-Экю, чтобы встретиться с одним молодым человеком: чутье торговца подсказывало ему, что тот станет главным орудием его обогащения. Судья Попино некогда оказал услугу самому ловкому коммивояжеру Парижа, прозванному впоследствии за свое победоносное краснобайство и поразительную расторопность «Прославленным». Сбывая шляпки и парижские модные товары, этот будущий король коммивояжеров в ту пору именовался просто Годиссаром. В двадцать два года он уже выказал себя мастером пускать пыль в глаза. Худощавый, жизнерадостный, проворный, обладая блестящей памятью и столь важным в торговом деле умением уговаривать, он вполне заслуживал достигнутого им впоследствии титула «короля коммивояжеров»; он был истинным французом.
Несколько дней назад Попино, встретив Годиссара, узнал, что тот собирается в дорогу. Надеясь застать его еще в Париже, влюбленный бросился на улицу Дез-Экю, где узнал, что коммивояжер заказал себе место в почтовой карете. Перед тем как распрощаться с дорогой его сердцу столицей, Годиссар отправился посмотреть новую пьесу в театре Водевиль; Попино решил дождаться его. Поручить распространенно орехового масла этому прославленному мастеру рекламы, уже обласканному богатейшими торговыми фирмами, не значило ли это заручиться покровительством фортуны? Попино мог положиться на Годиссара. Коммивояжер, умевший так ловко опутывать самых неподатливых людей — мелких провинциальных торговцев, вдруг впутался в первый заговор против Бурбонов, раскрытый после Ста дней. Годиссара — эту вольную птицу — бросили в тюрьму, предъявили ему тяжелые обвинения. Судья Попино, который вел дело, прекратил следствие, признав, что Годиссар оказался замешанным в заговоре только по легкомыслию и опрометчивости. Будь на месте Попино судья, желавший выслужиться, или какой-нибудь ярый роялист, злосчастный коммивояжер угодил бы на эшафот. Годиссар понимал, что обязан следователю жизнью, и не знал, как выразить признательность своему спасителю. Не смея благодарить судью за правый суд, коммивояжер явился к Рагонам и заявил, что отныне он верный слуга всей семьи Попино.
В ожидании Годиссара, Ансельм, конечно, не преминул осмотреть лавку на улице Сенк-Диаман и узнать адрес владельца, чтобы заключить с ним договор. Попино бродил по темным закоулкам Центрального рынка, размышляя над тем, как добиться скорого успеха; на улице Обриле-Буше ему улыбнулся счастливый случай, предвещавший удачу, и ему захотелось поскорее обрадовать Бирото. Было около полуночи, когда Ансельм, стоявший на часах у «Коммерческой гостиницы», услышал еще издалека, с улицы Гренель, финальный куплет водевиля: то распевал Годиссар, аккомпанируя себе выразительным постукиванием трости по тротуару.
— Сударь, — сказал Ансельм, внезапно появляясь из-за ворот, — на два слова.
— Хоть на десять, — ответил коммивояжер, замахиваясь на мнимого грабителя тяжелой тростью.
— Это я, Попино, — проговорил перепуганный Ансельм.
— Прекрасно, — сказал Годиссар, узнавая его. — Что нужно вам? Денег? Деньги временно в отпуску, но мы их раздобудем. Участвовать в дуэли? Весь к вашим услугам.
И Годиссар запел:
Вот он, смотрите,
Французский наш солдат.
— Мне нужно было бы поговорить с вами. У вас в комнате нас могут подслушать, лучше пойдемте на набережную Орлож: в этот час там нет ни души, — сказал Попино. — Речь идет об очень серьезном деле.
— Раз это так спешно, идем!
Через десять минут Годиссар узнал тайну Попино и оценил ее значение.
— «Ко мне, цирюльники, торговцы, парфюмеры!» — закричал Годиссар, подражая Лафону в роли Сида.[15] — Я приберу к рукам всех лавочников Франции и Наварры. Ого! идея! Я собирался уезжать, я задержусь и стану представителем парижских парфюмеров.
— Но для чего?
— Чтобы задушить ваших конкурентов, простак! Сделавшись представителем, я заставлю их захлебнуться своими эссенциями, подавиться своими коварными косметическими средствами, я буду восхвалять только ваше масло. Да! да! мы настоящие дипломаты торговли. Великолепно! Ну-с, вашим объявлением я займусь сам. У меня есть друг детства Андош Фино, сын торговца шляпами с улицы Дюкок, того самого старика, благодаря которому я стал коммивояжером. У Андоша — ума палата, он нахватал идеи из всех голов, украшенных шляпами его отца, он литератор, пишет о маленьких театриках в «Вестнике зрелищ». Отец его, старый пройдоха, терпеть не может умников, не верит в ум, и никак ему не втолкуешь, что умом торгуют, что ум приносит капиталы. Старик — круглый невежда по части ума. Он берет молодого Фино измором. Андош — человек способный, на то он мой друг, — с тупицами я имею дело лишь в торговле; так вот Фино составляет объявления для «Верного пастушка», и там ему платят; газеты же, на которые он работает, как каторжник, кормят его обещаниями. Какие там завистники! Все равно как в торговле модными парижскими изделиями. Фино написал чудесную одноактную комедию для знаменитой из знаменитых мадмуазель Марс, которую я действительно люблю! Ну, и что же, чтобы увидеть пьесу на сцене, он вынужден был отдать ее в театр Гетэ. Андош понимает толк в объявлениях, он проникается мыслями купца, он не гордец, он состряпает нам объявление бесплатно! Ей-богу, чашка пунша и пирожные — вот мы и в расчете. Шутки в сторону. Знайте, Попино, я не возьму ни комиссионных, ни проездных, — все оплатят ваши конкуренты, я их околпачу. Давайте договоримся сразу. Успех вашего масла — для меня дело чести. Наградой для меня будет удовольствие быть шафером у вас на свадьбе. Я отправляюсь в Италию, Германию, Англию, повезу с собой афиши на всех языках, расклею их повсюду, в деревнях, на дверях церквей, на всех заборах, какие я знаю в провинции! Оно заблестит, оно загорится, ваше масло, оно умаслит все головы! Свадьбу отпразднуете не на серебре, а на золоте. Вы станете мужем Цезарины, или не быть мне больше прославленным Годиссаром, как прозвал меня папаша Фино за то, что я создал успех его серым шляпам. Продавая ваше «Масло», я остаюсь верен себе, забочусь о человеческой голове; как известно, и масло и шляпы оберегают прическу.