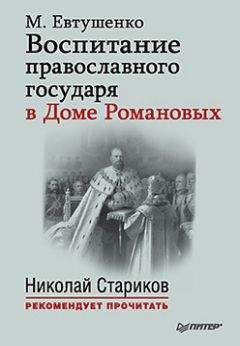Там, где мы бывали, Нам танков не давали, Репортёр погибнет — не беда, И на «эмке» драной С кобурой нагана Первыми вступали в города!
Это «первыми вступали в города» были — два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад.
А Иннокентий, со свешенною головою, слушал и понимал песню ещё по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягою-репортёром, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент, едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать установки. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные, мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием, — карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло: свою корреспонденцию он мог написать и в тылу.
Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи — самое приятное из её поведений. Она только хотела сидеть послушною женой, и чтобы видели все, как они живут хорошо.
Не знала она, как скоро будут её трепать, как стращать — всё равно, возьмут ли Иннокентия тут, или он вырвется и останется там.
Пока она заботилась только о себе, была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения — Иннокентий думал: и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется, ей полезно.
Но вот вернулась мягкость её — и защемила к ней жалость. Недоумение.
Да всё щемило, всё не мило, и с этого глупого вечера пора была уходить — если б дома не ждало ещё худшее.
Из полутёмной комнаты, от маленького телевизора со сбивчивым искривлённым изображением, кой-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала в дверях.
Она изумилась, как хорошо, ладком сидят Иннокентий с Нарой, и ещё раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества.
Этому вечеру, устроенному, по сути, для неё одной, она нисколько не оказалась рада, но ранена им, сбита. Она металась всех встретить и занять — а сама пустела. Ничто не было ей забавно, никто из гостей интересен. И новое платье из матово-зелёного креп-сатена с блестящими резными накладками на воротнике, груди и запястьях, может быть так же мало ей шло, как все прежние.
Навязанное и принятое знакомство с этим квадратненьким критиком, без ласки, без нежности, не давало никакого ощущения подлинности, даже противоестественное что-то. Полчаса он букой просидел на диване, полчаса по-пустому проспорил с Динэрой, потом пил с фронтовиками, — у Клары не было порыва захватить его, увлечь, оттащить.
А между тем пришла её последняя пора, и именно нынешняя, только сейчас. Наступило её предельное созревание, и если сейчас упустить, то дальше будет старее, хуже или ничего.
И неужели это сегодня утром? — сегодня утром! и в той же самой Москве! — был такой захватывающий разговор, восторженный взгляд голубоглазого мальчика, душу переворачивающий поцелуй — и клятва ждать? Это сегодня — она три часа плела корзиночку на ёлку?..
То не было на земле. То не было во плоти. То четверть века не могло овеществиться. То — приснилось.
На верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгорячённую подушку, которая была ему лоном клариного тела, Ростислав изнывал от счастья.
Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему всё ещё было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой.
«Ведь вы не могли бы меня ожидать!» — сказал он ей.
И она ответила:
«Почему не могла бы? Могла бы…»
— … Такие допотопности, как ты, только на вере и держатся, — рвался почти под ним сочный молодой голос, но с пригашенной звонкостью, чтоб слышно не было далеко. — Именно на вере, да на какой вере — ложной! А науки у вас отроду не было!
— Ну, знаешь, спор становится беспредметным. Если марксизм — не наука, что ж тогда наука? Откровения Иоанна Богослова? Или Хомяков о свойствах славянской души?
— Да не нюхали вы настоящей науки! Вы — не зиждители! И поэтому совсем даже не знакомы с наукой! Предметы всех ваших рассуждений — призраки, а не вещи! А в истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного!
— Золотко? Ком-иль-фончик! Так так у нас и есть: всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Вся философия — из трёх законов диалектики.
— Вещное знание подтверждается умением применять выводы на деле!
— Детка! Что я слышу? Критерий практики в гносеологии? Так ты стихийный, — Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал, — материалист! Хотя немного примитивный.
— Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора! Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!
— А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия!
Марфинская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? Мне это, может быть, так же скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе дотрусывает, як знает!
— Тебе не хочется со мной спорить потому, что ты не умеешь спорить! Вы все не умеете спорить, потому что избегаете инакомыслящих — а чтоб не нарушить стройности мировоззрения! Вы собираетесь все свои и выкобениваетесь друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мыслей друг от друга, они совпадают и раскачиваются до размеров… Да на воле — (глухо) — при наличии ЧК, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда, — (звонко) — здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками! — и тут-то вы оказываетесь как рыба на песке! И вам остаётся только лаяться и ругаться.
— По-моему, до сих пор ты облаял меня больше, чем я тебя.
Сологдин и Рубин, как сворожённые своими вечными разногласиями, всё сидели у опустевшего имениннища. Абрамсон давно ушёл читать «Монте-Кристо»; Кондрашёв-Иванов — размышлять о величии Шекспира; Прянчиков убежал листать прошлогодний у кого-то «Огонёк»; Нержин отправился к дворнику Спиридону; Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнёс тумбочки и лёг, накрывшись подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот час, когда уже сомневаешься — не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин всё сидели на пустой постели Прянчикова в закутке у последней оставленной тумбочки.
Однако тянуло к спору одного Сологдина: у него сегодня был день побед, они бурлили в нём, не улегались. Да и вообще по его расписанию всякий воскресный вечер отводился забавам. А какая забава могла быть распотешней, чем — срамить и загонять в тупик защитника царствующего скудоумия!
Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Не завершённая только что работа была у него, а напротив — навалилась новая сверхтрудная задача, создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера беречь бы силы. Ещё звали его два письма: одно от жены, другое от любовницы. Когда же было и ответить, как не сегодня! — жене дать важные советы о воспитании детей, любовнице — нежные заверения. А ещё звали Рубина монголо-финский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Лоуренс. И ещё сверх: то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.
Но тюремные законы спора хватко держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побеждён, ибо представлял тут, на шарашке, передовую идеологию. И вот, как связанный, он вынужденно сидел с Сологдиным, чтобы втолковывать ему азбуку, доступную дошкольникам.
Тише и мягче Сологдин увещевал:
— Настоящий спор, говорю тебе из лагерного опыта, производится как поединок. По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовём. Берём лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.
— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить?
— Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на бумаге иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах или ни в чём не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор — начинают поочерёдно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! И вот: невозможность увиливать, отказываться от употреблённых выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.