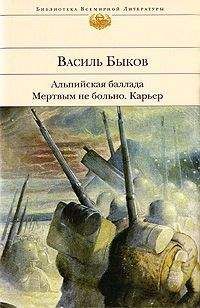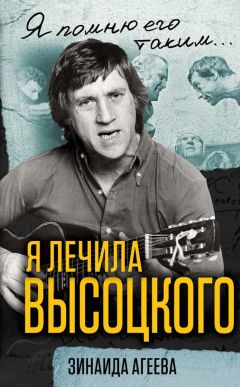– Конечно, конечно, – поспешил согласиться Агеев, не имея никакого желания спорить.
Общественники-уполномоченные почему-то прошлись к обрыву, заглянули в карьер. Проворный Шабуня обежал его поверху до половины, что-то объясняя и показывая, но Агеев не слушал и не стал их провожать, он снова опустился на свое ведро, на котором иногда посиживал по вечерам у костерка и, вслушиваясь в сердечные перебои, думал. Мысли его были под стать его настроению. Как мало надобно, думал он, чтобы изгадить настроение, и как трудно наладить его снова. Вот ведь ничего страшного не произошло, что ему нелепые домогательства этих настырных общественников, он их ничуть не боялся, потому что не видел в своих действиях ничего сколько-нибудь предосудительного. А вот на душе скверно. Он вовсе не опасался, что их дурацкому акту может быть дан какой-нибудь ход, да и оставалось ему тут, наверно, еще несколько дней поковыряться в этом карьере, и он уедет, скорее всего, так ничего и не определив для себя, ничего не найдя. Да, мудрено, видно, найти что-нибудь спустя сорок лет. Но вот он объяснил им то, что не имел обыкновения объяснять никому, отчего же он не удержался? То , что с ним тут случилось, касалось только его, ну и ее, разумеется, тоже. Вот перед ней бы он должен держать ответ, но ни перед кем больше. Но ее давно не было, не было даже ее белых косточек, которые, возможно, давным-давно превратились в пепел где-нибудь в крематориях Дахау или Освенцима, а он ищет их здесь. Но чтобы предположить что-то иное, прежде надо было обрести уверенность, что она в ту осень не осталась в карьере. Потом можно предполагать все что угодно, но только исключив из этих предположений карьер. Если же это ему не удастся и она все-таки окажется здесь, тогда все. Тогда для него «полная финита ля комедия, и ничего больше», как любил повторять все тот же Валерка Синицын.
Когда немного отлегло, он все же спустился в карьер, взял лопату. Но копать сегодня он, видно, не мог, пугающая слабость в груди упорно не хотела выпускать его из своих ватных объятий. Постояв немного, он поднял найденную утром туфлю, очистил ее от грязи, сполоснул в воде. Все-таки это не ее туфля, решил он. Там, где кожа сохранилась получше, было заметно, что она крашена в темный цвет, ее же лодочки были светлые, он это помнил отлично.
Туфлю он, однако, не бросил, поднявшись к палатке, повесил ее каблуком на растяжку – пусть сушится. Тем временем утро незаметно перешло в день и, хотя солнце так и не показалось в небе, стало тепло, от влажной земли поднимался густой душный пар. Дышалось с трудом, атмосферное давление было низким, Агеев чувствовал это по вялой работе сердца, которое едва шевелилось в груди, то и дело сбиваясь с ритма. Он ждал, что слабость пройдет, надо было посидеть в покое, может, залезть в палатку, отлежаться. Но он все сидел у входа в нее, размышлял. Вспомнил свой сон и печально улыбнулся: все так и есть, как напророчила ему ночь, день подтвердил, пакость свершилась. Надо было сходить за водой во второй от конца улицы двор, где был колодец, но не хотелось вставать, напрягаться, казалось, он утратил сегодня способность двигаться и расслаблено сидел у палатки. К полудню из-за карьера с полей подул легкий ветерок, разогнавший духоту и потревоживший покой угрюмых кладбищенских деревьев, Агеев с усилием поднялся и взял полиэтиленовый бидончик, чтобы сходить за водой. Но едва отойдя от палатки, он увидел, как из-за угла кладбищенской ограды вынырнул Семен, здоровая рука его размашисто отлетала в такт спорому шагу. Семен был все в той же желтой трикотажной рубахе с короткими рукавами, подол которой непослушно выбивался из-под брючного ремня, слабо стягивавшего его тощую талию.
– Привет! Что не копаешь? Или перекур? – бодро заговорил Семен.
– Перекур.
– Ну и хорошо! У меня тоже. С утра свою пайку сгребал, а тут баба погнала за хлебом. Да черта с два: поцеловал замок. Говорят, подвезут после обеда. Вот прогуляюсь, думаю.
– Ну и хорошо, – сдержанно сказал Агеев и ногой пододвинул гостю ведерко. – Садись, отдыхай.
– Ты садись. А я там, где стою.
Он неловко взмахнул культей и, не выбирая места, опустился на мелкую, уже подсохшую от дождя травку, привычно скрестив под собой длинные, в растоптанных сандалетах ноги. Здоровый рукой сразу полез в карман за куревом.
– Комиссия приходила, – тихим голосом сообщил Агеев.
– Какая комиссия?
– Подполковник в отставке, потом один из райкомхоза и вон соседка Козлова.
– Какого рожна им надо? – прикуривая от зажигалки, удивился Семен.
– Составили акт на раскопки без разрешения.
– А, так это Евстигнеев! Он всегда акты составляет. С папкой такой, ага?
– С папкой.
– Этот всегда – акты. У «Голубого Дуная» кто поругается – акт. Кто улицу перед домом не подметет – акт. Все на актах.
– Зачем это ему?
– А чтоб по начальству ходить. Вот составит и – в горисполком. В милицию. В товарищеский суд. За порядок воюет, всегда при деле. Без дела не может. В шахматы сыграть предлагал?
– Предлагал, – вспомнив, удивился Агеев.
– Надо было сыграть. И проиграть. Страсть как любит выигрывать. Беда, однако, – ему редко проигрывают. Разве что Скороход. Но этот с расчетом, из подхалимажа. Есть тут один такой вояка, – уловив недоуменный взгляд Агеева, объяснил Семен.
– Да. И еще Козлова с ними.
– Козлова? А эта зачем? – в свою очередь, удивился Семен.
– Да вон гусям ее помешал.
– Ах, гусям! Ну понятно. Таким завсегда все мешает. Потому что много хотят. Через край. Скажу тебе: с ума посходили люди. Как перед концом света. Все чего-то добиваются, о чем-то хлопочут, достают. Уж чего не достают только! Как то золото. Го д назад такие очереди! Толпы! И в поселке, и в городе. Был, видел. У каждой бабы тут, тут понацеплено. Зачем? И вот прошел год – как отрезало. Вон в универмаге лежит, пожалуйста, бери хоть кило. Никому не надо. Что это? Потребность? – возмущенно говорил Семен, словно выговаривая Агееву. – Скажу тебе, много беды оттого, что чересчур баб распустили. Много им позволяем.
– Ты тоже своей позволяешь? – спросил Агеев.
– Позволишь, куда денешься.
– Строгая?
– Язва! – коротко бросил Семен, затягиваясь «Примой».
– Видишь ли, наверное, позволяем потому, что сами не без греха. В семье или на службе. Вот они этим и пользуются, критикуют нас, – попытался улыбнуться Агеев.
– Ох, критикуют! – всерьез подхватил Семен. – Если критика в одну сторону, почему не критиковать. Сдачи не дашь ведь. Ого, попробуй! Она сразу в местком, в партком, в милицию. К соседям, к подругам, к родственникам. И ей верят. А ты куда побежишь? Тебе бежать некуда. Чуть что, кричит: выпивает! А раз выпивает, то и разговора нет. А я хоть и выпиваю, но, может, честнее их всех вместе взятых. Куркулей этих хитропопистых.
– Это вполне возможно, – вздохнул Агеев.
Он поспешно сел, снова почувствовав противную слабость в груди, боясь свалиться на землю, напугать гостя. Но слабость не проходила, и он вынул из заднего кармана трико металлический пенальчик с таблетками.
– Что, зажало? – насторожился Семен.
– Немножко...
– Может, доктора позвать? Если что, говори! Я мигом. В больнице меня знают.
Агеев устроил под языком тошнотворно пахнущую таблетку валидола, минуту подумал.
– Обойдется, может. Лучше водички принеси, пожалуйста. Вон в том доме.
– Да знаю...
Семен подхватил пластмассовый бидончик и без лишних слов припустил вниз, к дороге. Агеев, едва превозмогая боль, смотрел перед собой и думал почти с испугом, что, кажется, ему не повезло основательно. По опыту знал, такое не скоро пройдет, придется залечь или обращаться к врачам. Но и то и другое было ему не с руки, и он не знал, как быть и что делать...
Как-то утром, на пятый или шестой день своего пребывания у Барановской, Агеев не утерпел, снял повязку. Вернее, она сама снялась – сползла ночью к колену, обнажив рану, которая хотя и не кровоточила, но вовсю загноилась, по-прежнему источая зловоние. Размотав мокрый, в гнойных разводах бинт, Агеев сидел на топчане, не зная, что предпринять, когда в сарайчик вошла Барановская. Он попытался прикрыть кожушком ногу, но хозяйка сразу догадалась о его беде и, отстранив полу кожушка, взглянула на ногу.
– Гноится? Это плохо. И больно?
– Не очень. В глубине только дергает.
– Надо перевязать. Я поищу кое-что. Но вот лекарства никакого нет. И Евсеевны нет. В торфяниках всех постреляли.
– В торфяниках?
– В старых разработках. Всех до единого.
– Этого и следовало ожидать! – в сердцах бросил Агеев. – На что было надеяться?
– Человек всегда на что-то надеется. Даже вопреки рассудку. Что же еще остается в безысходности? – сказала хозяйка и вышла.
Скоро она вернулась с белой тряпицей в руках, стряхнув которую, начала рвать на полосы.
– Знаете, я вот думаю... У вас сало, вижу, осталось?
– Осталось, – сказал он, взглянув на стол-ящик, где, завернутый в бумажку, лежал принесенный Молоковичем кусочек сала.