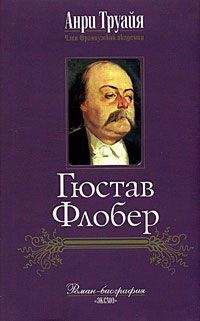То было лицо самой юной из акушерок, белокурой, золотоволосой девушки с синими и такими кроткими глазами, что умирающим приоткрывалось в них небо. Женщины в бреду говорили при виде ее: «Заступница наша, дева Мария!»
— Дитя мое, — услышала Жермини ее шепот, — сейчас же потребуйте, чтобы вас выписали. Вам надо немедленно уйти отсюда. Оденьтесь потеплее… Хорошенько закутайтесь… Как только вернетесь домой и ляжете, выпейте чего-нибудь горячего, какого-нибудь отвара, липового чая. Пропотейте как следует. И тогда вы не заболеете. Только уходите отсюда. Сегодня ночью, — продолжала она, обводя глазами ряды коек, — вам здесь будет нехорошо… Не говорите, что это я посоветовала вам выписаться, иначе меня уволят…
Через несколько дней Жермини была уже на ногах. Горделивая радость сознания, что она дала жизнь маленькому существу, в котором ее кровь смешалась с кровью любимого человека, и материнское счастье спасли Жермини от последствий дурного ухода в больнице. Она выздоровела, и весь ее вид говорил о таком довольстве жизнью, на которое прежде мадемуазель до Варандейль считала ее неспособной.
По воскресеньям, какая бы ни стояла погода, Жермини ровно в одиннадцать утра уходила из дому. Мадемуазель считала, что она ездит к подруге за город, и была в восторге от благотворного действия свежего воздуха на служанку. Жермини заходила за Жюпийоном, который позволял увезти себя без особого сопротивления, и они отправлялись в Поммез, куда удалось пристроить девочку и где их ждал заранее заказанный плотный завтрак. Стоило Жермини сесть в поезд мюлузской железной дороги, как она умолкала и даже не отвечала на вопросы. Она высовывалась из окна, и мысли ее устремлялись вдаль. Казалось, они хотели обогнать паровоз. Не успевал поезд остановиться, как она спрыгивала, бросала на ходу билет контролеру и бежала по поммезской дороге, далеко опередив Жюпийона. Она приближалась, подходила к дому, — вот он наконец! Здесь жила ее дочь! Она бросалась к девочке, ревнивыми материнскими руками выхватывала ее у кормилицы, обнимала, прижимала к себе, осыпала нежностями, ласками, не отрываясь смотрела на нее, смеялась. Сперва она любовалась дочерью, потом, обезумев, потеряв голову от любви и счастья, начинала покрывать поцелуями все ее тельце, ее маленькие голые ножки. Они садились завтракать. Жермини держала ребенка на коленях и ничего не ела: она столько целовала малышку, что не успевала вволю на нее наглядеться, и теперь выискивала сходство между нею и ими обоими. «Она похожа на тебя и на меня. Нос у нее твой… глаза мои… волосы будут, как у тебя… вьющиеся… Посмотри, твои руки! В точности твои!» И так часами длилась неумолчная очаровательная болтовня, которой женщины стараются вызвать у мужчин чувство отцовства. Жюпийон выслушивал этот вздор довольно терпеливо благодаря дешевым сигарам, которые Жермини по одной доставала из кармана и протягивала ему. К тому же он нашел себе развлечение: сразу за садом протекал Морен, а Жюпийон, как истый парижанин, был страстным рыболовом.
Когда наступило лето, они целый день проводили в этом саду на берегу реки. Жюпийон сидел на мостках для полоскания белья, а Жермини, не спуская ребенка с рук, устраивалась тут же на земле, в тени мушмулы, клонившейся к воде. День сверкал; солнце жгло широкий простор текучей влаги, в которой, как в зеркале, мерцали искры. Среди этого огненного ликования неба и реки Жермини играла со своей дочкой, перебиравшей по ней ножками, розовой, полуголенькой, одетой только в короткую рубашечку. Солнечные блики играли на ее тельце, загорелом, как тело ангелочка, виденного Жермини на какой-то картине. Она испытывала божественную радость, когда девочка неуверенными младенческими ручонками дотрагивалась до ее подбородка, рта, щек, упрямо тыкала пальчиками в глаза, старалась, играя, попасть в зрачки, искала, точно вслепую, лицо матери, щекоча его и больно пощипывая. Жермини казалось, что по ней скользит теплый луч жизни ее дочурки. Посылая порою над головой девочки краешек улыбки Жюпийону, она звала его: «Да посмотри же на нее!»
Потом ребенок засыпал, полуоткрыв улыбающийся во сне ротик. Жермини ловила каждый ее вздох, вслушивалась в ее спокойный сон. Постепенно, убаюканная ровным дыханием девочки, она блаженно забывалась, глядя на убогое пристанище своего счастья, на сельский сад, на яблони, в листве которых скрывались маленькие желтые улитки, на яблоки, зарумянившиеся с той стороны, где их припекало солнце, на тычины, за которые цеплялись вьющиеся, перепутанные стебли гороха, на грядку капусты, на четыре подсолнечника, украшавшие клумбу посредине полянки; потом она переводила взгляд на берег реки, до которого было рукой подать, на цветок пролески в траве, на белоголовую крапиву у стены, на бельевые корзины прачек и бутылки с жавелевой жидкостью, на вязанку соломы, растрепанную веселым щенком, только что выскочившим из воды. Жермини смотрела и вспоминала. Держа на коленях свое будущее, она обращалась к прошлому. Из травы, деревьев, реки она воссоздавала в памяти деревенский сад своего деревенского детства. Она снова видела два покатых камня у самой воды, на которых летом мать мыла ей перед сном ноги, когда она была совсем маленькой.
— Видите, дядюшка Ремалар, — в один из самых жарких августовских дней обратился, стоя на мостках, Жюпийон к старику, который смотрел на его удочку, — на красного червяка совсем не клюет, хоть тресни.
— Чтобы рыба клевала, нужен дождевой червь, — поучительно ответил крестьянин.
— Что ж, раздобудем дождевого червя, за деньгами не постоим… Дядюшка Ремалар, достаньте-ка мне в четверг телячье легкое и повесьте вот сюда, на это дерево… А в воскресенье посмотрим, что из этого получится.
В воскресенье Жюпийон наловил небывалое количество рыбы, а Жермини услышала первое слово, сказанное ее дочерью.
Когда в среду утром Жермини спустилась вниз, привратник подал ей письмо. В этом письме, нацарапанном на обороте счета из прачечной, кормилица Ремалар сообщала, что девочка Жермини захворала почти сразу после отъезда матери, что ей с каждым днем все хуже, что кормилица вызвала к ней врача и он объяснил болезнь укусом какого-то зловредного комара, что она вызвала врача второй раз, что не знает, как ей быть дальше, и заказала молебен о здравии ребенка. Кончалось письмо так: «Если бы вы знали, сколько я кладу сил на вашу девочку… если бы вы знали, какая она милочка, когда ей очень худо…»
Это письмо подействовало на Жермини так, точно ее кто-то сильно толкнул сзади. Она выскочила на улицу и бессознательно побежала по направлению к вокзалу, откуда уходили поезда на Поммез. Она была без чепца, в домашних туфлях, но не замечала этого. Ей нужно было увидеть свою маленькую, увидеть сию же минуту. Потом она вернется. На мгновение у нее мелькнула мысль о завтраке мадемуазель и тут же исчезла. Дойдя до середины улицы, она вдруг увидела часы в витрине конторы по найму фиакров и вспомнила, что в это время нет поездов. Жермини вернулась, решив, что отделается от завтрака и изобретет какой-нибудь предлог, чтобы освободиться на весь день. Но завтрак был съеден, а она так ничего и не придумала: поглощенная мыслями о дочери, она не могла лгать, ее воображение отказывалось работать. К тому же она знала, что если заговорит, начнет просить, то не выдержит, разрыдается и скажет: «Мне нужно поехать к моей маленькой!» Не осмелилась она уехать и ночью: накануне мадемуазель плохо спала, и Жермини боялась, что хозяйке может понадобиться ее помощь.
Когда наутро она вошла к хозяйке с какой-то выдуманной за ночь историей, собираясь сразу попросить о свободном дне, та, прочитав письмо, принесенное Жермини из привратннцкой, сказала:
— А, это моя старушка Беллез просит, чтобы я уступила ей тебя на сегодня, — она варит варенье. Скорей подай мне на завтрак два яйца и отправляйся! Ты, кажется, недовольна? В чем дело?
— Я? Что вы, барышня! — с трудом выдавила из себя Жермини.
Весь этот бесконечный день она ставила тазы на плиту, наполняла и завязывала банки, терзаясь так, как терзаются те, кому жизнь не позволяет поспешить на помощь тяжко занемогшим любимым людям. Ее сердце разрывалось от горя, хорошо знакомого несчастным, которые не могут очутиться там, куда летят их тревожные мысли, и переживают весь ужас разлуки и неизвестности, ежеминутно представляя себе, что дорогое существо умирает вдали от них.
Не получив письма ни в четверг, ни в пятницу, Жермини успокоилась. Кормилица написала бы, если бы девочке стало хуже. Малышка поправляется; Жермини уже видела ее спасенную, здоровенькую. Дети всегда так: кажется, вот-вот умрут, а назавтра они уже смеются. К тому же ее девочка крепкая. Жермини решила ждать, набраться мужества до воскресенья, до которого оставалось только сорок восемь часов, а пока что обманывала глубоко затаенную тревогу суеверными приметами, говорившими надежде «да!», уверяла себя, что ее дочка благополучно выскочила, потому что первый человек, встреченный ею утром, был мужчина, потому что она видела на улице рыжую лошадь, потому что догадалась, что прохожий свернет на такую-то улицу, потому что, поднимаясь по лестнице, сделала столько-то шагов.