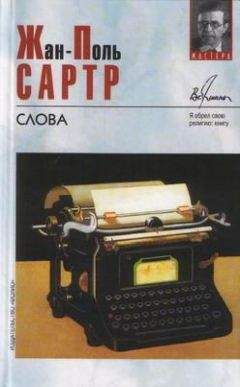Меня это донельзя потешало и трогало до слез; за свою короткую жизнь я насочинил себе немало ролей и склонностей, но все они таяли как дым.
Теперь во мне пробурили скважину, и бур уперся в скалу. Я писатель, как Шарль Швейцер — дед, от рождения и навсегда. Случалось, однако, что сквозь этот энтузиазм пробивалось беспокойство. Я не хотел допустить, что талант, гарантией которого в моих глазах был Карл. — простая случайность, я ухитрился превратить его в некий мандат, но никто не поощрял меня, никто ничего от меня не требовал, и мне не удавалось забыть, что вручил себе полномочия я сам. Я был частью первозданья, и в тот самый момент, когда я выделился из природы, чтобы стать наконец самим собой тем другим, каким я хотел быть в глазах других, — я взглянул в лицо своей судьбе и узнал ее: то была всего лишь моя собственная свобода, возведенная мной самим в ранг некой сторонней силы. Короче, мне не удавалось ни полностью провести себя, ни полностью разубедить. Я колебался. Сомнения воскресили старую проблему: как сочетать верноподданность Мишеля Строгова и великодушие Пардальяна? Когда я бывал рыцарем, я не повиновался приказам короля; должен ли был я согласиться стать писателем по чьему-то повелению? Впрочем, сомнения мучили меня недолго; я был во власти двух противоборствующих начал, но отлично приноравливался к их разноречию. Меня даже устраивало, что я одновременно дар небес и плод собственных произведений. В хорошие минуты все исходило от меня, я сам извлек себя из небытия, чтобы дать людям книги, которых они жаждут; послушный ребенок, я буду покорен до конца дней, но только себе самому. В часы уныния, когда меня тошнило от никчемности моей свободы, я утешал себя, напирая на предназначение. Я призывал род человеческий и возлагал на него ответственность за свою жизнь; я видел в себе только продукт коллективной потребности. Чаще всего я умудрялся не отказываться полностью ни от свободы, которая вдохновляет, ни от необходимости, которая оправдывает, и тем самым сохранял душевный мир.
Пардальян и Строгов уживались прекрасно, опасность таилась в другом: я стал невольным свидетелем неприятной очной ставки, весьма меня насторожившей. Всю ответственность за это несет Зевако, от которого я никак не ждал подвоха; хотел он смутить меня или предостеречь? Так или иначе, но в один прекрасный день в Мадриде, на постоялом дворе, когда я всецело был поглощен беднягой Пардальяном, который вкушал заслуженный отдых за бутылкой вина, романист привлек мое внимание к другому посетителю — то был не кто иной, как Сервантес. Герои знакомятся, обмениваются заверениями во взаимном уважении и отправляются сообща защищать добродетель. Хуже того, не помня себя от счастья, Сервантес признается новому другу, что намерен писать роман — до сих пор главный герой был ему не вполне ясен, но теперь, слава богу, появился Пардальян, который послужит моделью. Я возмутился и чуть не бросил книгу: какая бестактность! Я был писателем-рыцарем, меня рассекли надвое, каждая половинка стала самостоятельным человеком, они встретились и вступили в спор: Пардальян был не глуп, но не написал «Дон Кихота»; Сервантес неплохо дрался, но нечего было и рассчитывать, что он один сможет обратить в бегство двадцать рейтаров. Дружба только подчеркивала ограниченность каждого. Первый думал: «Писака хлипковат, но в храбрости ему не откажешь». А второй: «Черт побери, для рубаки этот парень неплохо рассуждает». И потом мне было не по душе, что мой герой послужил моделью для Рыцаря Печального Образа. В эпоху «кино» мне подарили адаптированного «Дон Кихота», я не прочел и пятидесяти страниц: мои героические подвиги выставляли всему миру на посмешище! А теперь и сам Зевако… Кому же верить? Сказать по чести, я был потаскухой, солдатской девкой — мое сердце, мое подлое сердце предпочитало авантюриста интеллигенту; я стыдился быть всего-навсего Сервантесом. Чтобы закрыть себе путь к предательству, я установил террор, изгнал из головы и лексикона слово «героизм» и его производные, загнал вглубь странствующих рыцарей, заставлял себя думать о писателях, об опасностях, которые их подстерегают, об остром пере, которым пронзают злодеев. Я по-прежнему читал «Пардальяна и Фаусту», «Отверженных», «Легенду веков», плакал над Жаном Вальжаном, над Эвираднусом, но, захлопнув книжку, стирал их имена в памяти и вызывал на перекличку полк, к которому был приписан: Сильвио Пеллико — приговорен к пожизненному заключению, Андре Шенье — гильотинирован, Этьен Доле — сожжен заживо, Байрон — погиб за Грецию. С холодной одержимостью я отдался переплавке своего призвания, обогатив его прежними мечтами; я не отступал ни перед чем, я выворачивал идеи наизнанку, искажал смысл слов, я отгородился от мира, опасаясь дурных встреч и возможных сравнений. На смену каникулярному покою моей души пришла постоянная всеобщая мобилизация — я ввел военную диктатуру.
От сомнений я, однако, не избавился, только они приняли другую форму. Я оттачиваю свой талант — прекрасно. Но с какой целью? Я нужен людям — для чего? Я имел несчастье задуматься о своей роли и предназначении. Я спросил: «О чем в конце концов речь?» — и понял, что все рушится. Речь не шла ни о чем. Не всяк герой, кому хочется. Храбрости и дара мало, нужны еще гидры и драконы. Я их не находил нигде. Вольтер и Руссо крепко повоевали на своем веку, но ведь в те времена еще не перевелись деспоты. Гюго с Гернсея пригвоздил Баденге, ненавидеть которого научил меня дед. Но велика ли заслуга кричать о своей ненависти к императору, вот уже сорок лет как умершему? О современной истории Шарль не распространялся: дрейфусар, он никогда и слова не сказал мне о Дрейфусе. А жаль! С каким увлечением сыграл бы я роль Золя: я выхожу из суда, озверелая толпа бросается па меня, поворачиваюсь на ступеньках коляски, задаю жару самым оголтелым, впрочем, нет, я нахожу грозные слова, которые заставляют их отступить. И уж я, разумеется, отказываюсь бежать в Англию. Я не признан, всеми покинут — какая услада вновь стать Гризельдой, одиноко скитаться по Парижу, ни на минуту не сомневаясь, что меня ждет Пантеон.
Бабушка получала ежедневно «Ле матэн» и, если не ошибаюсь, «Эксельсиор»; я узнал о существовании уголовного мира — как всем порядочным людям, он был мне омерзителен. Но от этого зверья в человеческом облике проку мне было мало, неустрашимый господин Лепин сам с ними управлялся. Иногда роптали рабочие, рушились состояния, но я об этом и слыхом не слыхал и до сих пор не знаю, что на сей счет думал дед. Он пунктуально исполнял долг избирателя, выходил из кабинки помолодевшим, немного красуясь, и, когда наши женщины поддразнивали его: «Ну, скажи уж, за кого ты голосуешь?» — сухо отрезал: «Это мужское дело!» Однако после избрания нового президента республики он в минуту откровенности дал нам понять, что не одобряет кандидатуру Пама. «Табачный торговец!» — воскликнул он в сердцах. Мелкобуржуазный интеллигент, Шарль хотел, чтоб первым чиновником Франции был его ровня, интеллигентный мелкий буржуа — Пуанкаре. Мать уверяет меня теперь, что он голосовал за радикалов, что ей это было отлично известно. Не удивляюсь: он выбрал партию чиновников; к тому же радикалы уже отживали свой век, Шарль мог спать спокойно — отдавая голос партии прогресса, он голосовал за партию порядка. Короче, если верить деду, дела французской политики были отнюдь не плохи.
Это приводило меня в отчаяние — я вооружился, чтобы защищать человечество против ужасных опасностей, а все заверяли меня, что оно безмятежно развивается и совершенствуется. Дед воспитал меня в уважении к буржуазной демократии: я охотно обнажил бы ради нее перо, но в президентство Фальера крестьяне пользовались избирательным правом, чего же больше? Что делать республиканцу, если ему выпало счастье жить в республике? Он бьет баклуши или преподает греческий, а в часы досуга описывает памятники Орильяка. Я вернулся к исходной точке и опять почувствовал, что задыхаюсь в бесконфликтном мире, обрекающем писателя на безработицу.
И снова выручил меня Шарль. Невольно, разумеется. За два года до того, чтобы приобщить меня к идеям гуманизма, он высказал некоторые соображения, о которых больше не заикался, опасаясь дать пищу моему безумию. Но идеи запечатлелись в моем мозгу. Теперь они вновь неслышно забродили во мне и, спасая основу основ, мало-помалу превратили писателя-рыцаря в писателя-мученика. Я рассказывал о том, как неудавшийся пастор, верный воле своего отца, сберег божественное начало, влив его в культуру. Из этой амальгамы возник святой дух, атрибут бесконечной субстанции, патрон литературы и искусства, древних и новых языков, а также метода прямого обучения, белый голубок, который нисходил благодатью на семейство Швейцеров, порхал по воскресеньям над органами и оркестрами, а в рабочие дни усаживался, как на насест, на макушку деда. Давние высказывания Шарля, собранные воедино, слились в моей голове в некую речь: мир во власти зла, спасение одно — отринуть самого себя, земные радости, осознав всю глубину крушения, отдаться созерцанию недосягаемых идей. Дело это трудное, требующее опасной и долгой тренировки, поэтому оно поручено специальному корпусу. Служители культа берут опеку над человечеством и обращают свои заслуги на его спасение — хищники, большие и малые, могут, спокойно транжиря свое бренное существование, грызться друг с другом или тупо прозябать, поскольку писатели и художники размышляют за них о красоте и добре. Для извлечения человечества из животного состояния необходимо и достаточно, во-первых, сберечь в местах. находящихся под охраной, реликвии умерших служителей культа — полотна, книги, статуи; во-вторых, иметь в наличии хотя бы одного живого служителя, способного продолжать дело и производить очередные реликвии.