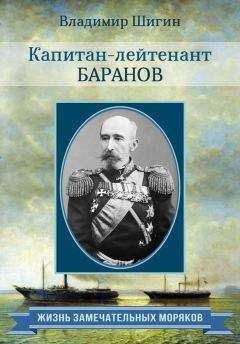Посидели, помолчали, пока не вышла из-за перегородки врачиха Анна Григорьевна. Она оглядела всех, увидела Ленку.
— Смирнова? Проходи! — и пропустила Ленку вперед себя.
— Вишь, молоденьким какая честь, наперед стариков пропускают, — сказал старик в шубе.
— А куда тебе торопиться-то? — оглянулась Романовна.
— Как куда? — сказал старик. — На тот свет охота, я уж в тамошних списках числюсь. Чего тут больше делыть: вина пить не дают, старуха стала старая, одна от нее ругань, а больше никакой пользы. На тот свет, матушка, на тот.
— Да по твоим речам, дак ты и молоденького переживешь, — отмахнулась Романовна. — Чего у тебя с рукой-то?
— С рукой-то? — Старик поглядел на завязанную холстиной руку. — Чего с рукой, я уже и забыл, давно из дому-то.
— Порубил, поди.
— Знамо, порубил.
— Поменьше языком будешь молоть.
Маленькая бабушка слушала разговор молча, но потом и ей захотелось поговорить.
— Не слушай ты его, не слушай! — замахала она рукой. — Всю упряжку не дело говорит.
Вышла опять врачиха Анна Григорьевна и с ней Ленка. Они вместе ушли за дверь. Вскоре Анна Григорьевна вернулась уже одна. Романовна поглядела на дорогу в окно. Ленки не видно было. «Куда это девалась девка, — подумалось Романовне, — вроде дороги-то нету другой».
Тем временем Анна Григорьевна поставила маленькой бабушке градусник, велела немного подождать и ушла.
— Ой, спасибо, милая, — заговорила ей вслед бабушка, — сразу легче и стало. Я уж все лепешки, какие в шкапу были, съела, и сусиди порошков приносили всяких…
— «Сусиди, сусиди!» — передразнил бабушку старик в шубе. — Сидела бы дома-то!
— Да ведь как, батюшко, ешшо и пожить-то охота, белого-то света жалко.
— Живи, кто тебе не велит. Я вот дома старухе как поставлю градусник, так всю хворь будто ветром сдунет.
— Тьфу, тьфу, дурак сивой, — заплевалась бабушка. — Сиди, бесстыдник. Век прожил, а толку как у маленького. Ведь, поди, и у деток детки, а он все еще языком барахвостит! Есть детки-то?
— Да у меня-то нет, а у старухи есть, как нету, есть у старухи.
— Вот я и гляжу, что некому тебя колотить.
Старик покашлял: «Кхе-кхе», — поскреб за ухом коричневым от курева ногтем и замолчал.
Романовна и слушала разговор и не слушала. Она все смотрела на дорогу, но Ленку так и не увидела.
Анна Григорьевна вызвала Романовну к себе, выслушала жалобы и дала лекарства. Велела прогревать руки и мазать мазью.
— Никакой работы нельзя делать, а особенно тяжелой! — сказала она Романовне, провожая ее до двери.
— Да что ты, матушка Анна Григорьевна! Я ведь умру без работы-то. А люди-то что скажут!
Но врачиха не откликнулась. Романовна слышала, как хлопнула дверь в родильной половине, завязала платок и направилась в магазин.
Она купила новую сковородку, хлеба, ниток, спички и пошла домой. Провода над головой все гудели, а Романовна думала свои думы, и все больше о сыне Степанке. Ей хотелось поскорее его увидеть. Пусть бы ехал домой да женился на той же Ленке. Девка хоть и не больно красавица, зато работница золотая: одних премий сколько ей надавали, и в районе почет.
Романовна думала на ходу, как собрали бы вечерок; и уже в уме прикидывала, куда поставить Степанкову кровать. Глядишь бы и внучек объявился, а ей ничего больше и не надо, стала бы перекладываться с маленьким, а насчет работы, так она еще ни которому не уступила бы.
Она снова вспомнила разговор с Ленкой и почуяла не то тревогу какую, не то беспокойство, словно уронила на пол иглу, а найти так и не нашла. Чего это она такая завязанная по самые глаза? И врачиха ее без очереди пропустила…
И вдруг у Романовны екнуло сердце и голову просветлила простая, как снег у дороги, мысль: «Да ведь… Ой, господи! Ведь она, Ленка-то, в родильной осталась!» Романовна прикинула в уме, когда уехал Степанко: выходило как раз на это — пошел четвертый месяц. Сначала Романовна замедлила шаг, потом и совсем остановилась, расстроенная. Провода гудели как во сне. Романовна не знала, что ей делать, и мысленно охала. Как это она сразу не догадалась? И вдруг чуть не бегом ринулась обратно, едва не упала на скользкой от тракторных саней дороге. От расстройства даже не поздоровалась со встречным человеком.
Двери в медпункт были уже на замке. Романовна подошла ко вторым дверям, перевела дух и прислушалась. В родилке было тихо, только трещали дрова в плите. Романовна, не раздумывая, дернула за скобу, но двери были заперты на крючок.
— Кто там? — услышала Романовна голос врачихи. — Что такое случилось?
Врачиха Анна Григорьевна приоткрыла дверь, строго посмотрела на Романовну.
— Я сейчас занята. Что вам нужно? Придите завтра. — И хотела захлопнуть двери, но не успела, и Романовна протиснулась в прихожую.
Анна Григорьевна растерялась и не знала, что сказать. Романовна вбежала в палату. На белом столе сверкали какие-то инструменты, а Ленка уже под простыней лежала на другом столе ни жива ни мертва.
— Что это такое? — опомнилась врачиха. — Гражданка, немедленно выйдите отсюда! Что это такое?
Романовна сдернула с Ленки простыню. Ленка вскочила и, плача, закрылась халатом.
— Ну-ко, вставай, вставай, девонька, — заговорила Романовна. — Ишь, чего выдумала! Вставай, да пойдем отсюда. А ты, милая, обери свои струменты! — обернулась она к врачихе.
Анна Григорьевна не успела слова сказать, как Ленка при помощи Романовны уже оделась.
— Вы что, мать ее, что ли?
— Мать, милая, мать! Ишь, что выдумали!.. Вставай, Еленка, надевай фуфайку.
Врачиха хмыкнула.
— Что вы мне голову морочите! А ты не плачь, чего разрыдалась? Не надо было раздабриваться перед каждым.
— Это как, милая, перед каждым? — оглянулась Романовна. — Это перед каким перед каждым? Мой Степанко не от худых людей, слава богу! Я век прожила, людей не смешила, и на хозяина люди не пообидятся, спроси кого хошь, на войне сгинул за нас, грешных. Вставай, Еленка, домой пойдем! Перед каждым!.. Ишь, что выдумали!..
Врачиха теперь все поняла и заулыбалась, снимая халат.
Ленка все плакала, а Романовна долго не могла успокоиться от обиды на врачихины слова.
…Когда они шли домой, снова над ними гудели тихие провода, сумерки растекались в лесу и в поле, а по деревням зажигались огоньки в домах.
У крыльца Романовна подала Ленке корзину и ключ от замка.
— Иди, девушка, зажигай лампу да ставь самовар, а я корову проведаю.
Через час они сидели за столом и пили чай. Потом Ленка на углу стола писала письмо под такую диктовку:
— Пропиши ему мое слово, прохвосту, чтобы он, прохвост, домой ехал, а на крестного наплюнь. Ну его к водяному, жмота! Проживем, даст бог здоровья…
* * *
Но «прохвост» домой не приехал. И когда уже в сенокос Романовна везла домой Еленку с новорожденной внучкой, у деревни и в поле все так же тонко и таинственно пели на столбах провода.
Романовна дня три беспокоилась и расстраивалась: не знала, какое имя дать внучке. Помогла опять же соседская Алевтина: с ее помощью и назвали девочку Светланой.
Вера приехала домой белой июньской ночью, когда деревня уже притихла и под горкой, в низине, стлался заполненный туман. Девушка поблагодарила шофера, который ехал дальше, в другой колхоз, и оглянулась. В палисадах тихо отцветали черемухи. Было так светло, что за деревней легко углядывалась ромашковая желтизна луга и черемухи, как днем, белели у домов. Их теплый сладковатый запах перемешивался со свежим запахом росы, еле заметные вздохи ночи ласково накатывались из проулка.
Вера прислушалась. Машина, на которой ехала она со станции, добродушно ворчала где-то за речкой. Сонно и редко покрякивал у прогона дергач.
Чувствуя радостные сердечные толчки, девушка подошла к материнскому дому. От посеребренной росою травы босоножки сразу же намокли. Вера поставила чемодан на вымытое сухое крылечко и, как в детстве когда-то, дернула за веревочку щеколды. Дверь не открылась: она была заперта еще на завертышек. Вера улыбнулась, припомнив этот сделанный еще отцом и отшлифованный многими руками завертышек. Она присела на крылечке, сняла босоножки. Ой, как приятно стоять босиком на сухих, выскобленных дресвою желтых половицах! Вера тихонько постучала. Где-то в глубине сеней послышался шорох, скрип половиц, затем и голос матери:
— Кто, крещеный?
Мать шла открывать, не дожидаясь ответа.
— Да кто это об экую пору? — снова проговорила она со стонами и охами.
— Да я это, мамочка. Вера же…
— Милая ты моя, Верушка! — сразу запричитала мать, суетливо открывая дверь. — Да как это ты?..
Мать и дочь обе с радостными слезли прошли в комнату. Александра Михайловяа на ходу обнимала дочку и все суетилась от радости: