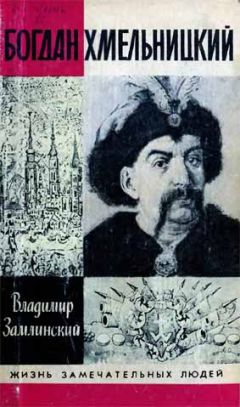— Виват, виват! — зашумела шляхта и полезла чокаться с князем; но тот отвечал холодно, не осилив еще вспыхнувшей злобы.
Сняли слуги вторую скатерть и уставили стол третьей переменой блюд. Появились в глубоких мисках и чашах разные соусы, паштеты, каши, пироги, вареники, бигосы и крошеное в кваске сало.
За третьей скатерью следовала уже главная перемена — жаркие; здесь уже фигурировала больше всякого рода дичь: лосина, сайгаки, зайцы, дрофы, стрепеты, утки и гуси. Все это было искусно зажарено и изукрашено диковинно хитро. К жаркому поданы были целые вазы разных солений и маринадов.
И третья, и четвертая перемены были так лакомы для гостей, что они приберегали особенно для них свой аппетит, поддерживая его специальными настойками и таки одолели наконец все и молча теперь отдувались, обливаясь потом.
Из дальней светлицы доносилось уже нестройное пение:
Сидела голубка на сосне,
Запела голубка по весне:
Ох, ох!
Кто не любит князь Яремы,
Его жонки Розалемы,
То пусть бы издох!{83}
Сняв четвертую скатерть и убрав всю посуду, слуги поставили среди стола огромные золотые жбаны и хрустальные кувшины, наполненные старым венгерским, дорогим рейнским, золотистою малагой, а между ними разместились скромно украшенные вековым мохом и плесенью бутылки литовского меду. Поставив перед каждым гостем еще по два золотых кубка, слуги наконец совершенно удалились из этой светлицы; один лишь дворецкий остался у дверей для выполнения панских желаний.
— Ну, мои дорогие гости, теперь и до венгржины, — налил Конецпольский соседям и себе кубки. — Еще дедовская, из старых погребов... Сделаем же возлияние румяному богу. Эх, подобало бы сии жертвоприношения творить совместно с усладительницами нашей бренной жизни; но я здесь по-походному, в пустыне, в халупе, и лишен очаровательных фей...
— Я, напротив, этому обстоятельству рад, — заметил сухо Ярема, — вино и женщины, Панове, у нас становятся, кажется, единственным кумиром, и я боюсь, чтоб ему в жертву не была принесена наша отвага и доблесть!
— Вовеки, княже! — брязнули в некоторых местах сабли.
— Да хранит ее бог! — попробовал патер вино и одобрительно почмокал губами.
— В моих погребах лучшее, — шепнул Любомирский Яреме.
— Притом Марс любовался Венерой, — поднял гетман свой кубок, — и от этого его меч не заржавел. Так за красоту, панове, и за мужество, за этот вечный прекрасный союз!
— За них, за них и за наш добрый, веселый гумор! — раздались вокруг голоса.
— И за наше добродушие и врожденную истым шляхетским родам милость! — добавил Кисель.
— Великую истину изрек пан, — одобрил Киселя молчавший до сих пор Калиновский.
— Тем паче, — заключил Радзиевский, — что ласка Фортуны располагает к кичливой гордыне и злу.
Конецпольский сочувственно наклонил голову; остальные крикнули «виват» и осушили весело кубки.
Поднялся говор и смех, а вместе с тем и хвастовство друг перед другом оружием, погребами, конями и псами.
— Рекомендую вашим вельможностям и малагу, — угощал радушный, приветливый гетман, — масляниста и ароматна... Отведайте, ваша велебность... Теперь ведь мы можем предаваться с полным душевным спокойствием земным радостям, ибо, благодаря его княжьей мосци, гидре мятежа срезаны головы...
— Не все, ваша мосць, пан Краковский: есть еще одна голова на Запорожье, и повторяю тысячу раз вам, Панове, — застучал ножом по столу князь Ярема, подняв до резких нот голос, — пока эта голова не отсечена, не знать Короне покоя. Змий этот мятежный живуч, у него на место отрубленных голов вырастают новые...
— Плетями их, канчуками собьем, — отозвались некоторые из подвыпившей шляхты, — как с лопуха листья!
— Ха-ха! Как вы самонадеянны, — презрительно засмеялся Ярема, — воображаете казака клочьем... Да у этих собак такие волчьи зубы, что и медведей изорвать могут. Мало ли пролито через них благородной шляхетской крови, в пекло бы их всех, к сатане в ступу! Так это хваленое добродушие, — ожег он Киселя стальным, злобным взглядом, — нужно по боку, к дяблу, а поднять следует желчь, пока она не смоет с лица земли этих шельм!
— Dominus vobiscum{84}, — произнес набожно патер и прибавил, нагнувшись к гетману, — малага действительно отменна, ей позавидовали бы и в Риме.
— Смыть, разгромить и прах развеять! — забряцали саблями многие.
— Veni, vidi, vici{85}, и баста! — крикнул кто-то из юных.
— На погибель быдлу! — поддержал и князь Любомирский.
В соседней светлице поднялся шум; послышались брань
и угрозы. Дворецкий, по знаку гетмана, выбежал, захватив надворных атаманов, охладить разгоряченные головы.
— Мое мнение на этот счет мосци князь знает, — с достоинством поднял голос гетман, и все притихли. — Я глубоко убежден, что казаки — да, что казаки! — наше храброе войско и уничтожать их — значит... значит — себе обрезывать крылья. Следует сократить, покарать, зауздать, поставить наших верных начальников, что я и сделал, — указал он на Комаровского, который при этом поклонился. — Но Запорожье — это... это наш пограничный оплот.
— Я размечу это чертово гнездо! — дернув стулом, синея и нервно дыша, крикнул Ярема.
— И этим бы причинил князь несчастье отчизне, — загорелся огнем и Конецпольский. — Нельзя истребить нашу лучшую пограничную стражу... да... лучшую. Она еще сослужит нам службу, а разметать — это... это открыть татарам всю нашу грудь.
— Построить другой Кодак на месте их гадючьего гнезда, — шипел Ярема, — третий, четвертый...
— Если бы князю удалось заковать даже Днепр, — снисходительно улыбнулся Конецпольский, — то какими... какими цепями перегородит он Буджакские степи?{86}
— Моими гусарами, драгунами, — с пеною у рта уже рычал князь.
— До первой погибели в пустыне, — процедил гетман.
— Верно, как бога кохам, — присовокупил Калиновский, — наши не могут переносить пустынных лишений, а граница так беспредельна... Враг прорвется везде.
— И тогда, княжья мосць, — заметил, отдуваясь Корецкий, — все наши благодати обратятся лишь в одно воспоминание.
— Никогда! — ударил по столу рукой князь. — Я за свою шкуру не боюсь и отстоять ее сумею... Только у страха глаза велики...
— Не у страха, мосци княже, — заметил сдержанно гетман, — а у благоразумия.
— Родные братья, — даже отвернулся Ярема.
— Не безумная отвага и ненависть, — уже дрожал Конец- польский, — созидает царства... созидает и упрочает благо... Нет! Здесь нужны не запальчивость, а проницательность и благоразумие... Ведь князь и вы, шляхетные Панове, не должны забывать, что ведь это... это не завоеванная страна, а перешедшая добровольно... вместе... Литва и она... И эти казаки и хлопы тут, до нас, были у себя хозяевами.
— Да продлит бог век его гетманской мосци, — сказал с чувством Кисель.
Послышался и сочувственный, и неприязненный шепот.
— Гетман, кажется, — прищурил Иеремия глаза, — к своей булаве желает присоединить и трибунскую палицу.
— Я, княже, не заискиваю у плебса, — гордо ответил гетман, побледнев даже под румянами, — но... но... не одному врагу, но я и правде привык смотреть прямо в глаза... Да, хозяевами были, это нам нужно помнить и в наших же интересах действовать осторожнее, не раздражать... Мятежников мы усмирили, но корня мятежа — нет! Он кроется именно в том, именно... что вот они были хозяевами. Мы несем сюда свет и жизнь, и потому владычество должно принадлежать нам; но мы должны помнить, да... помнить, что они были хозяевами, а потому... — заикался все больше и задыхался гетман, — а потому и им должны оставлять крохи, успокоить строптивых, усыпить, обласкать и поднять надежных, верных нобилитировать, да... да исподволь приручать, избегая насилия.
— Политика вельможного гетмана, — улыбнулся одобрительно патер, — весьма тонка и остроумна; она рекомендуется и нашим бессмертным Лойолой{87}; но она медлительна, а в иных случаях...
— Это смерть! — оборвал князь Ярема.
Одобрительный в пользу гетмана говор снова притих; но Конецпольский продолжал смело:
— Иначе мы истощим силы в «домовой» борьбе, и если задавим Казаков, то... то... татары, Москва... нахлынут, и... и... защищать будет некому.
— Разве, кроме этих собак, нет под вашими хоругвями храбрецов? Если нет, так у меня их хватит на всех! — ударив себя в грудь, гордо обвел рукою Вишневецкий собрание.
— Никто не сомневается в ваших храбрецах, княже, — задыхался совсем Конецпольский, — но это... это... не дает пану права сомневаться и в наших!
Все смутились и замолчали. Князь Ярема почувствовал себя тоже неловко и с досады крутил свою бородку.
— В войне с дикими ордами, позволю себе заметить и я, — начал Кисель тихим, вкрадчивым голосом, воспользовавшись общим молчанием, — берет перевес не храбрость, а знание врага, изучение всех его уловок и хитростей, — так сказать, полное уподобление природы своей природе врага. Такое уподобление, Панове, приобретается не сразу, а десятками лет... Как пересаженное с полуденных полей древо гибнет среди чуждой ему пустыни, так гибли бы непривычные к степям новые воины... И столько бы пало жертв, дорогих для отчизны! А между тем сыны этих степей — казаки...