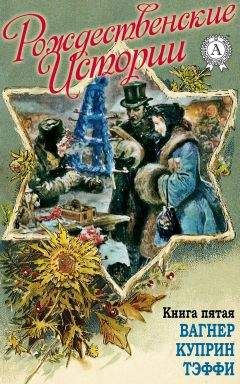К тому же я слышала, что эта фотография не единственная в таком роде. Их несколько, даже, может быть, много. Так что если повезет, то легко можно напасть на желаемую. (Впрочем, нападет-то она сама на вас!..)
Узнала я обо всем не особенно давно.
И так это все вышло странно… Шла я как-то вечером по Невскому. Было уже темно. Зажгли фонари. На небе тоже стемнело, и зажгли звезды.
Мой спутник впал в лирическое настроение, говорил о том, что все в природе очень мудро, а на углу Троицкой приостановился и, указывая тросточкой на Большую Медведицу, дважды назвал ее «Прекрасной Кассиопеей».
Я подняла голову и уже приготовилась возражать, как вдруг наверху, над крышами, что-то мигнуло. Мелькнул лукавый белый огонек. Вспыхнул, мигнул. Ему ответил другой, немного подальше. Затем третий.
«Кто это там перемигивается ночью, под черным небом? – подумала я. – Дело, как будто, не совсем чисто».
Навели справки. Мне сказали, что это фотографии, работающие при свете магния.
Ну, что ж, – магний так магний.
Я поверила, но в душе осталась какая-то смутная тревога.
И недаром.
* * *
От моей подруги отказался жених. Отказался от доброй, красивой (да – красивой; продолжаю на этом настаивать!) и умной барышни, которую он страстно любил, которой еще месяц тому назад писал – я сама видела – писал: «Единственная! Целую твои мелкие калоши!»
Отказался! Положим, он прибавил, что, может быть, скоро застрелится, но ей от этого какой профит?
Несчастье произошло оттого, что она подарила ему медальон со своим портретом.
Он страшно обрадовался медальону, открыл его, побледнел и тихо-тихо сказал:
– Однако!
Больше ничего. Только это «однако» и было.
За обедом он ничего не ел и был очень задумчив. Потом, во время кофе, попросил невесту повернуться на минутку в профиль. Затем выскочил и уехал.
На другое же утро невеста получила от него уведомление, что он не создан для семейной жизни. И все было кончено.
* * *
Недавно одни мои добрые знакомые чуть было не отвезли свою единственную дочь в лечебницу для душевнобольных. Я навестила несчастных родителей, и они рассказали мне следующее: недели две тому назад отправилась их дочь в фотографию за пробной карточкой. Вернулась она совсем расстроенная, сказала, что карточка будто бы не готова, отказалась от театра и весь вечер плакала. Ночью жгла в своей комнате какие-то картоны (показание прислуги), а в шесть часов утра влетела в спальню матери с громким требованием сейчас же массировать ей правую сторону носа.
– Несчастная! – урезонивала ее мать. – Опомнись.
– Не могу я опомниться, – отвечала безумная, – когда у меня правая сторона носа втрое толще левой, когда она доминирует над лицом.
Так и сказала: доминирует. Каково это матери выслушивать!
К обеду она, однако, как будто и поуспокоилась, зато ночью прокралась в комнату отца, стащила бритву и сбрила себе правую бровь, а утром побежала к дантисту и умоляла, чтоб он распилил ей рот с левой стороны. Тут ее, голубушку, и сцапали.
Наняли в лечебнице комнату, стали собирать вещи. Вдруг слышат – кричит прислуга истошным голосом.
Кинулись к ней, глядят, а у нее в руках барышнина карточка. Описывать карточку я не стану, хоть мне ее показывали; еще, пожалуй, подумают, что я подражаю Эдгару По. Скажу одно: мать пролежала два дня в истерике, отец подал в отставку, кухарка сделалась за повара и потребовала прибавки жалованья…
Теперь они уезжают из Петербурга, где оставляют столько тяжелых воспоминаний…
* * *
Была я на днях в фотографии и дожидалась, чтобы мне выдали пробные карточки одной знакомой дамы. Сижу, жду. Высокая, тощая особа роется в книгах и квитанциях с видом оскорбленного достоинства.
Вдруг звонок. Входит энергичный, оживленный господин и спрашивает свой портрет. Тощая особа оскорбляется еще глубже и с холодным презрением подает ему карточку. Господин несколько изумленно смотрит, затем начинает добродушно улыбаться.
– Ха! Это который же я?
Особа «холодна и бледна как лилия» и молча указывает длинным перстом.
– Ха! Ну и р-рожа! Отчего это щеку-то так вздуло?
– Такое освещение.
– А нос отчего эдакой, pardon, клюквой?
– Такой ракурс.
– Гм… Уди-витель-но! А где шея? Где моя шея?
– Шея у вас вообще очень коротка, а тут такой поворот.
– Зачем же вы, черт возьми, pardon, так меня посадили?
Несколько минут тягостного молчания.
– А это кто же рядом со мной сидит?
– Это? – (Беглый взгляд на карточку.) – Разумеется, ваша супруга.
– Супруга? – в ужасе переспрашивает господин. – Ишь ты! Как же она могла здесь выйти, когда я с ней еще в девяносто шестом году разошелся. Когда она, pardon, живет в Самаре у тетки.
– Фотография не может быть ответственна за поведение вашей жены.
– Позвольте! Да ведь это, верно, Сашка, pardon. Александр Петрович, с которым я приходил сниматься! Ну конечно! Смотрите, вон и сюртук его…
– Фотография не может быть ответственна за костюмы ваших приятелей.
Господин сконфузился и попросил завернуть карточки, но вдруг остановил тощую особу и робко спросил:
– Не можете ли вы мне сказать, чей это ребенок вышел там у меня на коленях?
Особа долго и внимательно рассматривает карточку, подходит к окну, зажигает лампочку и, наконец, холодно заявляет:
– Это вовсе не ребенок. Это у вас так сложены руки.
– Не ребенок? А как же вон носик и глазки?
– Впрочем, тем лучше, тем лучше! Мне, pardon, было бы ужасно неудобно и даже неприятно, если бы это оказался ребенок… Ну, куда бы я делся с маленьким ребенком на руках?
– Фотография не может быть ответственна.
– Ну да! Ну да! Очень рад. Но все-таки – удивительная игра лучей.
Он ушел. Мне выдали карточку моей знакомой, где она, почтенная старуха, начальница пансиона, была изображена с двумя парами бровей и одним лихо закрученным усом, который, впрочем, при внимательном рассмотрении через лупу оказался бахромкой от драпировки. Но я уже знала, что фотография не может быть ответственна.
Я не захотела огорчать бедную женщину и бросила карточку в Екатерининский канал.
Все равно там рыба дохнет.
* * *
Часто приходится встречать людей бледных, расстроенных, страдающих странным недугом. Они робко спрашивают у знакомых, не кривое ли у них лицо? Не косит ли глаз? Не перегнулся ли нос через верхнюю губу? И на отрицательный ответ недоверчиво и безнадежно отмахиваются рукой.
Их жалеют и им удивляются.
Но я не удивляюсь. Я знаю, в чем дело. Знают также и те, кто перемигивается по ночам высоко над крышами, под самым черным небом.
Они начинают петь с шести утра. Из окна моей комнаты я могу видеть прачечную, где они работают, и вылетающие из дверей клубы белого пара, словно пронизанного стальными вибрирующими нитями, их звонкими и глухими, резкими и тягучими разнообразно-ужасными голосами.
От голосов этих нельзя ни укрыться, ни спастись. Они найдут и разыщут вас всюду, они прервут ваш сон, оторвут ваше внимание от работы, от интересной книги и, незримым тонким крючком подцепив вашу протестующую и негодующую душу, потянут ее в царство пошлости, из которой рождены.
Нужно бежать, прямо бежать на улицу, – мелькает в голове. Но вы бросаете взгляд на письменный стол, где лежит неоконченная работа, вспоминаете раскаленные камни мостовой и остаетесь дома.
А они поют, поют, поют… Репертуар их песен самый несложный, но к нему никогда нельзя привыкнуть, как не могли привыкнуть дети Якова Д’Арманьяка к тому, что, по приказанию Генриха VIII, им выдергивали каждый день по одному зубу; не могли, несмотря на все однообразие этой пытки.
Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской песни, с ее грустными, захватывающими переливами, с наивными бессознательно-красивыми словами? Неужели она бесповоротно вытеснена безобразными и бессмысленными фабричными напевами? В глуши Могилевской губернии, на расстоянии более ста верст от железной дороги, деревенские бабы распевают «Канхветка моя, лядинистая». Этот гостинец, вместе с безобразными «модными» кофтами, принесли им мужья из далеких городов, куда они ходят на заработки.
Знаменитые песни «Не одна во поле дороженька», «Не белы снеги» заброшены совсем. Деревенская молодежь их не любит, говорит, что это песни мужицкие (оказывается, что мужикам не нравится «мужицкое», их же собственное свойство!).
Я вспоминаю эти красивые полузабытые песни, а те, там внизу, все поют и поют! Сегодня нет между ними согласия и единства. Каждая тянет свое. Вот широким серым винтом крутится однообразная, тоскливая мелодия, прерываемая длинными паузами, во время которых я замираю от ожидания, от смутной надежды, что этот куплет был последним. Но винт продолжает кружиться, ввинчивается в мои мысли, разбивает их…
– широко, повествовательно и убедительно сообщает новый тягучий голос, и мне кажется, что я вижу источник его – растянутый поблекший рот, увенчанный круглым красным носом, и я всецело становлюсь на сторону «мамашеньки», которая ругала. А вот другой восторженный голос предлагает полюбоваться совершенно невообразимым пейзажем, но, должно быть, успокоительным: