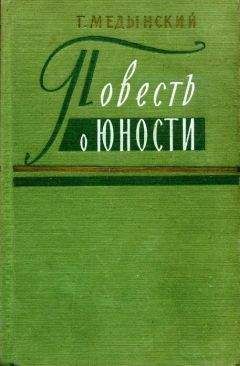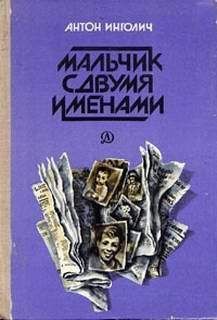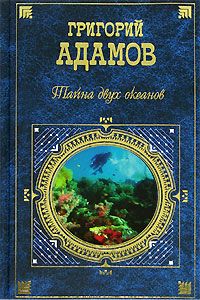Настояла она и потом, когда, не кончив института, «выскочила» замуж, когда вдруг так же неожиданно разошлась с мужем и когда после нескольких лет одинокой жизни сделала выбор, которого никто из всей семьи не одобрил – Яков Борисович почему-то не приглянулся никому.
Так постепенно у Нины Павловны испортились отношения со всей семьей, вернее – со всеми братьями, и только бабушка в поисках примиряющей середины всегда искала для нее какие-то оправдания. Прожив всю жизнь с одним мужем, а после его смерти – честной, в бесконечных трудах вдовой, старушка не понимала и не оправдывала разводов, как заразу, распространившуюся среди молодого поколения. Но что тут поделаешь? Видно, новые люди хотят по-новому жить, а она старая и чего-то в этом новом не понимает. Не понимала она и Нину Павловну, но жалела и потому охотно взяла внука к себе.
«Что ж она смолоду непривязанной бобылкой останется. Может, кого и найдет!»
Поэтому бабушка мирилась с тем, что выбор у Нины Павловны затянулся, как примирилась и с тем, на кого он в конце концов пал. Яков Борисович ей не понравился, как не понравилась, кажется, и она ему. Но что же поделаешь: жить им. Ей только было жалко внучка. Она редко бывала в новой семье, но по тому, что видела и слышала, по тому, каким неприкаянным чувствовал себя Антон, она поняла – настоящей семьи не получилось. И вот – пожалуйста!
– Отца, видно, нужно было искать ребенку, а не мужа себе, – выговаривала она Нине Павловне. – Да и самой о нем не забывать. А то замиловалась, видно, а мальчишку забросила. А много ль им надо? Ребята чуткие, они все понимают, по-своему, а понимают.
Ехать к Роману после такого разговора с матерью Нина Павловна не решалась. Если уж старушка заговорила так – что скажет он? Но положение было безвыходное. Нина Павловна в конце концов собралась к брату: пусть выругает, но посоветует, что делать. К несчастью, Романа не было дома, он оформлял документы для отъезда, зато жена его, Лиза, оставив все хлопоты по сборам, приняла самое горячее участие в делах Нины Павловны.
– А почему вы с бабушкой решили, что оп уехал к отцу? – сказала Лиза. – Из его разговоров? Да мало ли!.. От разговоров до поездки далеко. Да и куда он поедет? Зачем?
– А куда он мог деться? – совсем растерялась Нина Павловна.
– Я не знаю, но я бы… Я бы обратилась в милицию, – сказала Лиза. – Даже если он к отцу уехал, все равно! А может, еще что случилось? Может, его ребята затянули? Разве так не бывает? Может, они с него и деньги потребовали? У них это бывает. Нет, дело нешуточное, я бы пошла в милицию.
И Нина Павловна пошла в милицию, к Людмиле Мироновне, в детскую комнату.
Капитан Панченко не очень верил адресу Сени Смирнова, который дал ему Вадик, но все-таки решил проверить: может быть, Сеня Смирнов и есть тот остроносый, который был тогда с Вадиком за сараем.
Капитан Панченко пошел по указанному адресу и там, в домоуправлении, установил: действительно в квартире номер три живет Семен Смирнов. Отец его – токарь, мастер одного из крупных московских заводов, мать тоже токарь, на том же заводе, работает в ОТК, у них два сына, семья здоровая, хорошая, крепкая.
– А как бы побывать у них? – спросил капитал Панченко.
– Ну что ж, пойдемте! – сказал управляющий домом. – У них как раз ремонт нужно производить. Назовем вас техником.
Пошли. И, к счастью капитана, вся семья была в сборе, в том числе старший сын Семен. Но он оказался вовсе не тем, которого видел в компании с Вадиком капитан Панченко: у этого мясистый нос, такие же мясистые щеки, губы, подбородок и все лицо крупное, но мягкое я благодушное.
«Интересно! – подумал Панченко. – Почему же Валик назвал одного и не назвал другого? Интересно!»
Тем более нужно было установить фамилию того, остроносого. Очевидно, если Сеня Смирнов знает Вадика, он должен иметь представление и о других его приятелях. А что он не будет путать и скрывать – в этом капитан Панченко почему-то был уверен: семья Смирновых, ему понравилась, и сам Сеня вызывал у него доверие.
Для Смирновых Панченко решил остаться техником, а Сеню попросил вызвать в детскую комнату.
Но все оказалось сложнее, чем он рассчитывал: Сеня очень разволновался, даже заплакал и сначала ничего не хотел говорить. Лишь когда работник детской комнаты успокоил его, Сеня по приметам назвал остроносого Генкой Лызловым, потом, опять разволновавшись, просил его не выдавать. Упомянул он и еще одного, какого-то чубатого, но фамилию его скрыл, упорно утверждая, что не знает ее.
Пришлось вызвать Генку Лызлова, и вот капитан Панченко всматривается в его острые, колючие глазки.
У Вадика все проще: подчеркнутая вежливость, и взгляд, и речь – все выдавало слишком явную и примитивную хитрость. Генка больше помалкивает и точно сам тебя изучает пристально и зорко. И ведет он себя в высшей степени независимо.
– А что, я не могу с ребятами гулять? С кем хочу, с тем и гуляю. Чубатый? Какой чубатый? Не знаю!.. Вадик? А-а, этот стиляга? Я ему вчера морду набил.
– За что же? – спрашивает капитан Панченко.
– За то, что стиляга! Им всем морды нужно бить.
– Так вы ж с ним друзья-приятели.
– Какие приятели? Кто это вам такую липу напел?
Панченко смотрит в глаза Генки в надежде поймать в них искорку, которая изобличала бы скрытый ход его мысли. Но никакой искорки нет, и Генка без всякой заминки начинает называть фамилии совсем новые, не связанные с тем кругом людей, которые сейчас интересуют Панченко: какой-то Валерик Северов, Лешка Коротков.
– А ты откуда их знаешь? – спрашивает Панченко.
– Учились вместе, – охотно рассказывает Генка. – Они в нашем доме живут: Валерик в пятой квартире, а Лешка Коротков на втором этаже, в девятой.
Панченко ничего не записывал, но все запомнил, – необходимо проверить и это. И обязательно нужно побывать у Генки, познакомиться с его матерью, Надеждой Егоровной. И вот найден случай, и они разговаривают, и Надежда Егоровна смотрит на гостя напряженным взглядом.
– Отчего он такой у меня? Жизнь, значит, такая, оттого и такой.
Она рассказывает о своей далекой молодости, о муже, погибшем на фронте, и показывает фотокарточку.
– Вот он!
На карточке красавец с двумя треугольничками в петлицах, рослый, с открытой, жизнерадостной улыбкой, она ниже его на целую голову, пухленькая, в матроске, с мечтательным, немного томным выражением лица.
Теперь лицо ее туго обтянуто тонкой желтоватой кожей и резко выступают острые скулы. Вместо томной мечтательности в глазах какое-то горячечное, почти исступленное напряжение, словно человек идет по канату и боится сорваться.
Генке не было еще года, когда отец ушел на фронт, и больше они его не видели. Он был артиллерист, сержант и погиб в исторической битве на Курской дуге, погиб вместе со своим орудием и всей его прислугой, но не пустил немцев в тот овражек, который воплощал тогда для него всю Россию.
Мать с сыном эвакуировались, потом вернулись, но комната, в которой они жили, оказалась занятой каким-то директором магазина, и пришлось потратить немало сил, чтобы получить новую.
– Горя было много. – Губы Надежды Егоровны сохли, и она облизнула их языком. – Сначала сыночка брала с собой на работу. Начальство узнало – запретило. Стала оставлять дома. Приготовлю ему поесть, оставлю ведро для своих нужд и запру. Зиму так прожили, а весной он вылезет в окно и бегает во дворе с ребятами, а как мне приходить – опять через окно и домой. Соседи сказали мне, я ругать его стала, а он глянет так на меня: «А ты сама посиди попробуй!» Дерзкий такой был, нечего говорить, с детства дерзкий. И взгляд у него такой, пронзительный. И на ласку он не чувствительный, – хоть бы ее и не было. Это и в детском садике о нем воспитатели говорили: сурьезный мальчик, неласковый.
– В детский садик, значит, все-таки устроили? – спросил Панченко.
– Устроили. А там тоже мученье – дрался. Так, говорят, всеми и вертит, все верх хочет взять: туда пойди, то сделай; все разбойники, а он атаманом обязательно будет; все партизаны, а ему командиром быть. За игрушки особенно дрался: «Мое!» А подрастать стал – в материальную сторону дело уперлось. Ведь я как живу? Я всю жизнь работаю. Сейчас я кастеляншей в больнице работаю. Живем – не голодаем и босыми не ходим, а лишнего нету: чего там говорить – экономика тесная. А парню хочется лишнего. Как всем! А на лишнее и деньги лишние нужны. Я говорю: «Откуда ж я наберусь, сынок!» – «А я что – из глины вылеплен? Чем я хуже других?» Парень гордый, а положение тесное.
Все, о чем говорила Надежда Егоровна, могло быть правдой, но капитан Панченко не всегда верил людям на слово – профессия научила. Да и многовато что-то жаловалась мамаша: другим пришлось испытать тоже немало, но все пережитое куда-то отступило, ушло, забылось, и наверху оказалось что-то другое: и сила, и свет, и бодрость. А здесь наверху – вся боль прошлого и обида на жизнь. И потому, найдя случай, капитан Панченко решил все это еще разок проверить – поговорил с соседкой, и та рассказала то, о чем умолчала Лызлова.