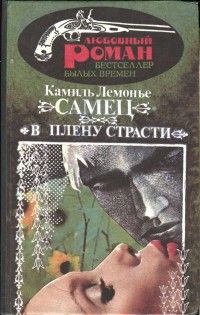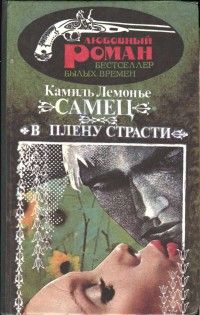«События жизни — только проекция всех наших мыслей и наших деяний, — подумал он, делая более решительный шаг в сторону Истины. — Все, что случается с нами, есть лишь результат наших добрых или злых намерений; последствия их, еще до того как они станут действительностью, уже заложены в нас самих. Мы ощупью бредем по лесу, где корни деревьев намертво вросли в наши собственные поступки».
Мысли не слушались его. Он чувствовал какую-то разбитость, мозг его постепенно цепенел. Из-за откинутого верха экипажа, по которому барабанил дождь, он смотрел на расстилавшиеся перед ним унылые поля, на которых свинцовым покровом лежали преждевременно наступившие сумерки. После всех волнений, которые он испытал за этот бурный день, на душе его остался только тяжелый страх перед надвигающимися бедами.
«Над Рассанфоссами тяготеет злой рок», — повторял он себе, и в конце концов сама безнадежность этих слов стала для него источником какого-то горького спокойствия.
Рука судьбы потянулась к ним. Это она явилась в разгаре их пиршества, она писала на стенах зловещие слова. Ему почудились огромные колонны, которые вдруг заколебались, он ощутил порыв страшного ветра: их дом низвергался во мрак.
Было совсем темно, когда он приехал в Мезьер. Он не поверил своим ушам: последний поезд на Живе уже ушел. А оттуда было три часа езды до Ампуаньи. Ко всем неприятностям прибавилась еще перспектива заночевать в гостинице. Он позавидовал старому рабочему, который, окончив тяжелый трудовой день и неся под мышкой свой инструмент, шел сейчас впереди него. Тот, должно быть, направлялся в какую-нибудь жалкую лачугу, но в теле его не было тех червей, которые теперь живьем поедали его, короля Рассанфосса, бездомного в этом маленьком городке, влачившего сквозь освещенную уличными фонарями ночную тьму все нестерпимые тяготы своего величия.
Когда, возвратившись в Ампуаньи, Жан-Элуа рассказал жене о недостойном поведении Лавандома, г-жа Рассанфосс сначала не могла как следует разобраться в своих чувствах. Ей казалось, что все это затрагивает только материальную сторону дела. Что же касается интимной жизни их дочери, то здесь все просто было покрыто мраком неизвестности — нет ведь никаких оснований думать, что виконт уехал из Распелота. Аделаида воображала, что они все еще живут под одною кровлей, но порознь, как бывает с мужем и женой, которые в ссоре. Она чувствовала себя несчастной, но одновременно с этим радовалась невозможности их примирения. Она свыклась с мыслью видеть в Гислене виновную, отвергнутую ею дочь, простить которую могла только такая нежная мать, как она. Она любила дочь за то, что этот несчастный брак сделал ее страдалицей, за тот страх перед унижением и обидами, которые ей, по всей вероятности, приходилось теперь постоянно терпеть от этого ненавистного им обеим человека. В ней говорила упорная, каждый раз оживавшая с прежнею силой ненависть к этому Лавандому, который украл у них дочь и который стоил им таких больших денег. Она хотела, чтобы он оказался еще более отвратительным, способным на любую жестокость по отношению к Гислене. Тогда бы у них было еще больше оснований его ненавидеть. Материнский эгоизм довел ее прежнюю любовь до какой-то извращенности: ее бы, вероятно, огорчило, если бы их прежняя взаимная неприязнь исчезла. По крайней мере пока эта неприязнь существует, никто не может отнять у нее сердце ее дочери; сердце это принадлежит ей целиком, вместе со всеми своими обидами и горестями. Оно нуждается в ее ласке, в ее ободряющем слове, и никто другой ему этого не заменит.
С этих пор г-жа Рассанфосс стала надеяться, что, вернув Гислену к ним в дом, она сможет загладить все былые обиды. Вместе с тем еще более неприятной становилась мысль о позорном сговоре, отдавшем их дочь в руки Лавандома. Она почувствовала, что ей надо как-то оправдаться перед собой, позабыла, что сама была соучастницей этого сговора, и думала только о том, какую роль во всем сыграл ее муж. Каждый из них терзался угрызениями совести, сознанием своей вины перед дочерью, и каждый старался свалить эту вину на другого. Аделаида была уверена, что любит дочь настоящей материнской любовью, в то время как на деле это было не чем иным, как чудовищным материнским лицемерием. Она готова была все отдать за счастье Гислены, но с такою же готовностью прокляла бы ее, если бы это счастье ей принес брак с Лавандомом. Об уехавшей из их дома дочери она печалилась, как о покойнице. Она мысленно зажигала над нею свечи, проливала слезы, и вместе с тем в глубине души ей хотелось, чтобы скорбь эта оставалась всегда безутешной.
Жан-Элуа сообщил ей, что Гислена готовится стать матерью. Продолжая оплакивать ее участь, Аделаида с тоскою чего-то ждала. Не решаясь признаться себе самой в своих желаниях, она во всем полагалась на милость господню. Она верила, что бог поможет ей, и принялась горячо молиться, в надежде, что ее грешные желания будут услышаны. Муж ее не молился, в душе его кипела ненависть. Она обрекала на смерть еще в утробе матери этого младенца, этот позорный отпрыск нечистой крови, появление которого на свет прививало одной из ветвей старинного буржуазного рода черенок безвестного плебейского племени.
В Ампуаньи его ждало новое разочарование. Арнольд писал ему из Танжера, что он отстал от миссии, которая поехала дальше. Страны, которые он проезжал, нисколько его не интересовали, вся их экзотика, восхищавшая его спутников, казалась ему скучной; объезжать лошадей, во всяком случае, интересней, и он хочет вернуться домой. Но он уже успел растратить все свои деньги; поэтому он просил отца прислать ему в Марсель чек на шесть тысяч франков, рассчитывая прожить на эти деньги несколько недель в Париже.
Чувство горькой досады овладело Жаном-Элуа. Выходит, что этот тупоголовый болван не поддался никаким благотворным влияниям? Даже путешествие по древним сказочным странам не пробудило ни малейшего интереса в его закосневшем мозгу! И этому тоже нужны деньги! Дети выжимали из него все соки. После приданого Гислены, которое отрезало от его состояния чуть ли не два миллиона, понадобившихся, чтобы удовлетворить прожорливого Лавандома, после повторных вымогательств Ренье, теперь и этот мужлан начинает его обирать. Сыновья смотрят на него как на бездонную бочку: каждый выкачивает, сколько может. Жан-Элуа опасался, что Арнольд выкинет какое-нибудь новое сумасбродство, и решил послать ему чек. Этим всегда все кончалось. Он боялся опорочить свое имя, дискредитировать фирму Рассанфоссов, и эта доходившая до болезненности щепетильность заставляла его, крупного финансиста, в угоду пунктуальности и порядку, каждый раз с рабской покорностью ставить свою подпись.
«Да, — говорил он себе, — я породил акул… Они поедают меня заживо… И хуже всего то, что я не настолько богат, чтобы позволить себе перестать быть честным человеком».
Он послал этот чек. Он охотно согласился бы заплатить вдвое больше, если бы только эти деньги могли удержать Арнольда вдали от семьи, могли хоть на какое-то время обуздать в нем зверя, готового сорваться с цепи. Но в сыне его жила какая-то грубая, ничем не укротимая стихия. Внезапный порыв выключал вдруг все тормоза, и от него можно было ждать любой, самой дикой выходки.
В довершение всего с Симоной случился припадок. В течение целого часа она вырывалась из рук матери и прибежавших на помощь женщин, судорожно билась головой о подушки и кричала, призывая Гислену, словно со смертного одра, в отчаянии перед грядущими ужасами, которые она в своем безумии, казалось, предчувствовала. За этим припадком последовал другой. Ей мерещились какие-то одетые в черное люди, которые несли гробы, зажигали свечи под темными сводами церкви. Несчастья и смерть обступили ее со всех сторон, как стая зловещих птиц, как вороны, пророчившие гибель их дому. А сама она стала какой-то Кассандрой, которая хриплыми стонами, воплями ужаса предрекала конец Рассанфоссов.
Припадки эти начались у нее еще в раннем детстве. Когда, со значительным опозданием, наступила половая зрелость, они на некоторое время прекратились, чтобы потом возобновиться с еще большей силой. Домашний врач заявил, что лучшим лекарством для нее было бы замужество, а тем более материнство. Регулируя все функции организма и направляя их по определенному руслу, оно умиротворяюще действует на здоровье и отлично успокаивает нервы. Но когда Симоне стали говорить о такого рода лечении, она пришла в ужас. Она кинулась в объятия матери, обуреваемая отчаянием и стыдом, умоляя, чтобы ее отправили в монастырь.
К восемнадцати годам ее страх перед мужчинами достиг таких пределов, что при появлении постороннего человека в доме она обычно запиралась у себя в комнате. Она или вовсе отказывалась спуститься вниз, или, появляясь за столом, все время волновалась и держала себя принужденно до такой степени, что, когда однажды Провиньян-сын, который был в доме Жана-Элуа впервые, попробовал было немного за ней поухаживать, с ней сделалась истерика и она стала бить посуду.