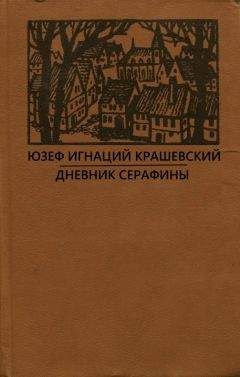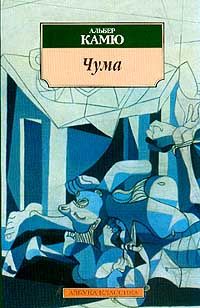Особенное влияние оказывал на него Павел, который сумел уговорить Стася, что не надо чуждаться людей. Отчасти уроки у еврея, отчасти помощь Ипполита теперь уже позволили Шарскому появиться на людях в более приличном платье, надежда забрезжила в его сердце, и он позволил вытащить себя в свет.
Тогдашнее виленское общество, в том числе и самые знатные дома, охотно принимало юношей, носивших студенческий мундир, никогда еще ничем не запятнанный и служивший лучшей рекомендацией. Стоило кому-нибудь привести в гости студента, его везде принимали, пусть без особых почестей, которых молодежь и не вправе требовать, но вполне любезно и с искренним радушием. Немного нашлось бы семейств, где на вечеринках, на всяческих домашних празднествах и просто за повседневным чаепитием не появлялся бы кто-нибудь из университетских студентов. Они составляли живую струю, придававшую здешнему обществу больше движения, живости и огня. От пыла молодых сердец все вокруг невольно согревалось. Шарский и не хотел и не мог бы начать знакомства со слишком высоких слоев — это принесло бы ему больше мучений, чем пользы, врожденная робость сильно ему мешала, и Щерба, дабы с первых же шагов она не возросла, разумно поостерегся приводить Станислава в дом, где излишняя церемонность или претенциозность могли бы его смутить. Выбор был достаточный, и пан Павел начал со своих хороших друзей, супругов Чурбан. Пан Чурбан (прошу позволения так его и называть) жил в городе якобы ради того, чтобы дать воспитание дочерям, которых у него было целых шестеро, но сам ничем не занимался и в доме исполнял лишь следующие обязанности: снимал нагар со свечей, встречал гостей в дверях и провожал их в переднюю, ходил на кухню сообщить распоряжения хозяйки, когда наступало время накрывать на стол, затем сидел в углу, ожидая дальнейших приказаний. То был румяный, веселый, пышущий здоровьем господин, так искренне хохотавший, что одно удовольствие слушать, — стоило ему самому сострить (что, однако, давалось ему нелегко) или другой кто пошутит, он, не дожидаясь, пока договорят до конца, уже от хохота хватается за живот, и не раз случалось, что весть о чьей-то смерти он встречал самым чистосердечным взрывом веселья. Всю свою жизнь пан Чурбан был доволен собой, своей женой, всем вокруг и так расположен восхищаться, что самая легкая критика, гнев, огорчение, обида были для него чем-то непонятным, чудовищным. О том, что супруга, не намного его умнее, сумела его подчинить себе, и говорить не приходится, — самая глупая женщина в ходе житейских будней покорит самого разумного мужчину хотя бы одной лишь стратегией воркотни, но наравне с женою пан Чурбан слушался и всех своих дочек, которых называл не иначе, как «козявки» или «букашки», хотя на козявок они отнюдь не походили, а были девицы пухленькие, румяные, свежие, всегда веселые. И козявок этих было ровным счетом шестеро, все на возрасте, все на выданье. Можно себе представить, сколько студентов бродило под их окнами, из которых во все часы выглядывали русые и темноволосые головки.
Дом свой чета Чурбан, хотя он стоял в городе, содержала на сельский шляхетский лад — без претензий, без показной роскоши; там царили приветливость, гостеприимство, добропорядочность, основательность. Барышни были скромные и хорошенькие, а у хозяйки дома, почтенной матроны, имелся лишь один недостаток — она воображала, будто любит литературу. Это пристрастие возникло у нее только в городе, на старости лет, когда уже не надо думать о соленьях и вареньях; весьма слабо разбираясь в предмете, она считала себя литературной дамой, отчего частенько попадала впросак. Барышни все были премиленькие, нрава покорного и веселого, почти как у отца, чей хороший пример был у них всегда перед глазами, и, подобно ему, не любили киснуть без причины. В такой вот дом и привел однажды вечером Щерба дрожащего Шарского чуть ли не силой, заранее оповестив, что приведет поэта. Хозяин встретил их на пороге громким смехом, хозяйка же, чинно сидевшая за круглым столом, строго на них уставилась, а барышни, словно бы шныряя любопытными глазками по углам, все поглядывали на нового гостя.
Друзья застали в гостиной Базилевича, который там уже прочно расположился и, видимо, в этом доме, как и всюду, играл главную роль, — вытянув ноги почти на середину комнаты, он сидел между старшими сестрами и что-то читал по бумажке хозяйке дома, слушавшей его с необычайным вниманием. Новоприбывшие невольно ему помешали, и автор не скрыл своего раздражения, хотя они старались войти как можно тише и побыстрей усесться.
— Но дочитайте же нам ваш сонет! — воскликнула хозяйка. — Вы же знаете, пан Базилевич, я обожаю стихи. Очень просим! На чем мы остановились?
— А на том остановились, — пряча листок в карман, пробурчал Базилевич, — что вот эти господа зашаркали ногами, а я во второй раз читать не намерен.
Хозяин от души захохотал, схватил Базилевича за обе руки, прижал к своей груди и усадил за стол. Хозяйка глянула на супруга с укоризной, барышни чуть подвинулись, и разговор перешел на другие темы. Музыка, богослужения, городские новости, все тут пошло в ход, и пан Чурбан при каждом слове так добродушно смеялся, что и других заражал своей веселостью. Некоторые из дочерей вторили ему, потихоньку хихикая. Базилевич, откинув волосы со лба, ходил по комнате с высоко поднятою головою, недовольный и надменный, но на него никто не обращал внимания. Даже старшая из сестер, которой он посвятил два сонета — один, увидев ее «Молящейся в костеле», другой «К играющей на фортепиано», — похоже, не дарила его особым расположением.
На столе, рядом со свечами и колокольчиком, лежала книга в синей обложке, совсем новенькая, еще не разрезанная, видимо, недавно принесенная и тут же позабытая. Шарский, который мучился, не зная, куда девать Руки, куда смотреть, как заговорить, машинально взял книгу со стола, но в тот же миг, будто кипятком ошпаренный, уронил ее на пол. То был, вероятно, самый первый выпущенный в свет экземпляр только что переплетенного Альманаха, час назад его принес сюда пан Ипполит. Шарский с пылающим лицом, стыдясь своей неловкости, поднял книгу и молча положил ее на место. Однако шум привлек внимание и взгляды окружающих.
— А, это Альманах пана Ипполита, он приносит моим дочкам литературу! — воскликнула хозяйка. — Очень он мне нравится, человек добропорядочный, большой талант! А как Трембецкого критикует! Вот если бы кто из вас, молодые люди, почитал нам что-нибудь!
Щерба жадно схватил книгу, читать он любил и недурно читал вслух: быстро отыскав глазами известное ему стихотворение Шарского «Прощанье» и не говоря, чье оно, начал читать его горячо, просто, искренне.
Даже Базилевич соизволил остановиться и прислушаться. Когда подлинное, сильное чувство согреет грудь молодого поэта, когда из сердца его изливаются не выдуманные страданья, не причудливые мысли, а извечные, всегда новые горести, — разве может кто-либо остаться равнодушным? Тут нет надобности в артисте или в знатоке, не нужны ни вкус, ни ученость, нужно только сердце, а сердце есть почти у каждого, кто его в себе не умертвил. Стихотворение представляло собою простое, безыскусное прощанье с местами, где протекали детство и юность, с растущей в саду грушей-старушкой, с домом под зеленой, замшелой кровлей, с сельской церковью, с дерновой скамейкой и со священным порогом родного дома — прощанье, исполненное пронзительного отчаяния и слез, прощанье пылкой юной души. В этом контрасте девственного чувства и страдальчески звучащего прощанья, слова которого, казалось, могли бы исходить из уст осужденного на смерть или на изгнание или умирающего старца, и заключалась величайшая тайна прелести стихов и их силы.
Шарский, изгнанный отцом и знающий его неумолимое сердце, горючими слезами оросил эти несколько кровоточащих строф — они могли бы составить часть целой поэмы, тут каждое слово дышало поэзией и неизбывным, жгучим страданием.
Когда Щерба начал читать, все притихли, но вот, закончив последнюю строфу, он медленно поднял взор и увидел, что и хозяйка дома, и барышни, и даже весельчак хозяин — все плачут! О, каким это могло быть триумфом для поэта, будь он в состоянии его воспринять, им насладиться, но Шарский был настолько сконфужен и взволнован, что голова у него шла кругом, — он ничего не слышал и не видел, кроме шума, яркого света и какой-то мучительной суматохи вокруг себя.
Барышни и мамаша засыпали Щербу вопросами: «Чье это? Чье?» А тот лишь указал рукою на полуживого автора.
— Ох, я и впрямь разревелась, как ребенок! — восклицала хозяйка, утирая слезы. — Слыханное ли дело — сочинять такие печальные стихи!
— Слыханное ли дело! — повторил вслед за женою пан Чурбан, пожимая плечами. — Не лучше ли заставлять людей смеяться, чем плакать?
— Прелестно! Прелестно! — щебетали барышни и поглядывали — но теперь уже как-то по-другому — на пылающего от стыда Шарского.