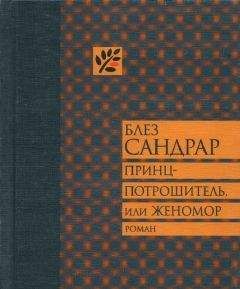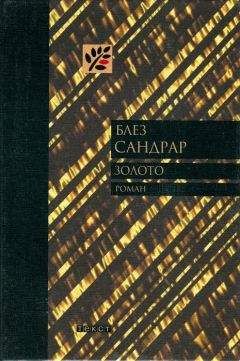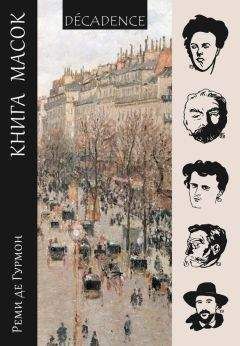— Ну что, отправляемся?
Я не в силах разжать зубы. Женомор нахлестывает лошадь. Потихоньку мы едем, все едем по бесконечным улицам, на которых уже появляется кое-какой народ. Сейчас примерно половина седьмого или без четверти. Куда Женомор нас везет? Мне все равно. У меня кружится голова. Сейчас упаду. Все вокруг ходит ходуном.
Открываю глаза. Мы на извозчичьей стоянке. Становимся в хвосте. Женомор меня трясет, заставляет вылезти. Утаскивает меня в трактир. А Дубова мы оставляем спать на лавочке в пролетке.
Пора уезжать. В этом городе оставаться больше нельзя. Придется отказаться от поисков Маши. Тем хуже. Надо сматываться. И попытаться перейти границу. Однако для этого придется вернуться в Тверь. Быть может, вагоны с кислой капустой уже под наблюдением. Что ж, придется рискнуть. Кто знает, вдруг случится невероятное и мы доберемся до Лондона?
Так говорит мне Женомор. Я согласно киваю, своей воли у меня нет. Только бы все наконец кончилось. Если б он приказал покончить с собой, я бы тотчас вытащил револьвер и пустил бы себе пулю в рот.
Мне все надоело.
Мамочка, спаси меня от этой напасти, не дай помереть!
В поезде жарко, духота несусветная. Вагон набит до отказа. Женомор тотчас заснул. Колеса поезда вращаются у меня в голове и с каждым оборотом отрезают от мозга тоненькие пластиночки. Большие голубые прогалы в облаках изливаются мне прямо в глаза, но колеса крутятся и крутятся, рассекая и круша все. Они уже вращаются в самом небе, оставляя там следы — длинные маслянистые полосы. Эти пятна расползаются, множатся, переливаются разными цветами, и я вижу, как моргают тысячи глаз, щурясь на раскаленное солнце. Огромные зрачки перекатываются от горизонта к горизонту, сталкиваясь, поглощая друг друга. Потом они внезапно усыхают до мелких горошин и висят под облаками, твердые, неподвижные. А вокруг них образовывается нечто вроде прозрачной эктоплазмы, она затвердевает, превращаясь в какое-то лицо… мое лицо. Мое лицо, повторенное сотню тысяч раз, — и внезапно все эти лица приходят в движение, они шевелятся, подскакивают, быстро-быстро мельтеша, как насекомые, бегающие по поверхности мутной лужи. Небо превращается в блистающую твердь, словно зеркало, и колеса, в последний раз прокатываясь по ней, делают свое дело, давя стекло. Мириады осколков звенят, кружась, производят целые тонны звуков, все шумы и крики обрушиваются, выстреливают мне в ухо, упираясь в перепонку, словно телескопические трубки. Мир расчерчен и разорван зигзагами молний, в нем двигаются какие-то губы, разеваются рты, летают оторванные пальцы, чудовищный взрыв разрастается в набрякшей глубине моих ушей, отдаваясь там ревом, а Москва падает с неба мелкой крошкой, дождем пепла, как воздушный шар, загоревшийся в воздухе и распавшийся на мельчайшие хлопья. Везде, вверху и внизу, разлетаются кувырком какие-то картинки из прошлой жизни, они порхают в воздухе, прежде чем рассыпаться в прах: Московский Кремль, собор Василия Блаженного, Кузнецкий мост, стена Китай-города, мой номер в отеле… потом — с некоторой задержкой — Рая; вот она выходит из тумана и снова растворяется в нем… Ее ноги расползаются, растягиваются, тянутся, дематериализуются… Вот остается только шелковый чулок. Он висит высоко в воздухе, раздуваясь и обтягивая несуществующую икру… становится толстым, как набитый мешок, словно пузо, огромное, гигантское… Это Машин живот. Но и Маша в свою очередь исчезает, на ее месте остается какая-то сарделька, ах нет, это голыш-младенец, он падает на спину и сучит, сучит ногами и руками.
Как? Что? Да что такое? Ах да. Да. Да. «Тверь! Тверь!» Я уже на платформе. И что дальше? Да, да: «Тверь! Тверь!» Да. Да. Выходим. Выходим. Хорошо. Прекрасно. «Тверь! Тверь!» Уже понял. Выходим. Чего еще? Старина, ты идешь? Да, черт возьми. «Тверь!» Великолепно. Я уже здесь. «Тверь! Тверь!» Дай руку! Вот так. Ты ведь знаешь, где тут выход? Хорошо. «Тверь!» Все так, но я не могу идти. Черт подери! Сматываем удочки! Я уже готов. «Т-в-е-р-ь-!» А вот и я. Все получилось. Все как нельзя лучше. Все прошло гладенько. Сматываем удочки!
Полотно железной дороги в сумерках. Семафоры выстроились в шеренгу перед лесом. По переходу мы пересекаем пути. Шагаем прямо по полю. Да иди же ты! Продвигаемся вперед медленно, как жабы, перескакивая с кочки на кочку, вихляя задом. Один тянет другого. Лихорадка, жажда, усталость, выпитая водка, бессонница, кошмары, сон, хохот, отчаянье, наплевательство, ярость, голод, лихорадка, жажда, усталость — все это давит на нас, тянет жилы, и вся нежная механика организма в полном беспорядке. Наши часики тикают, уже засекаясь, несмазанные суставы скрепят, в голове бухает колокол, распугивая остаток мыслей, мы уже не властны над своими языками, мыслей не осталось, только дрожь во всем теле… И в таком состоянии надо спасать свою шкуру.
Я дотащил Женомора до кустов бузины. Телеги там не было. Ну да, она ждала меня не сегодня. Да, конечно, Иванов. Я же не назначал ему здесь встречу. Я увижусь с ним в городе. Надо туда вернуться. Кровь из носу надо разыскать его в городе!
Сознание понемногу проясняется.
Женомор не может двинуться с места. Лежит на траве и стонет, как малый ребенок, придерживая руками раненую ступню. Я разматываю повязку, освобождаю его ногу от русского носка. Ступня распухла. Большой палец совсем почернел. Мне ничего не остается, как вынуть нож и с тем профессиональным бесстрастием, на какое я только способен, отсечь гангренозный палец. Проделываю это весьма успешно, затем рву рубашку и туго перевязываю; получается шикарно: по всем правилам искусства. Поскольку антисептиков под рукой нет, обрабатываю рану мочой, как делают американские индейцы с берегов Амазонки.
Эта маленькая операция нам обоим пошла на пользу. Мы улеглись в траву и очень хладнокровно обсудили создавшееся положение. Надо вернуться назад на станцию и, если вагоны с капустой еще не отправлены, попробовать пробраться в один из них: это наш единственно возможный путь к спасению. Если за ними наблюдают — тем хуже. Значит, нас сцапают.
— Ну и хватит об этом. Идти-то можешь?
— Пожалуй, старина, могу. Подожди чуть — чуть, вот выкурю трубку и пойду.
И мы двинулись в путь. Все было не так уж плохо. Женомор обхватил меня за талию, а я его поддерживал, просунув руку ему под мышку. Мы еще пошучивали. Посмеивались. И почему это Женомор поет? О чем его песня? Слов я не понимал, вероятно, что-то венгерское. Песенка из детства.
Подходим. Вот и пришли. Остановились по другую сторону от путей в ивняке, который разросся у вокзальной стены напротив нужной нам платформы. Наши два вагона все еще стоят там же, в конце тупичка. С нашего наблюдательного поста нам видны все подходы к вокзалу. Платформы безлюдны. Никакого движения. Семафоры и звезды тихо перемигиваются. Над головами огромное безмятежное небо. Изредка с опушки доносится птичий щебет. Светящийся циферблат на башне показывает три часа ночи. Мы ждем более часа в полнейшей, никем не потревоженной тишине.
— Не пора ли идти?
— Подожди минутку, — просит Женомор. — Дай еще передохнуть. — Затем, помолчав, спрашивает: — Прикинь, старина, сколько отсюда до вагонов.
— Метров пятьдесят.
— То есть шагов сто двадцать пять, — обескураженный, шепчет Женомор. — Ну что делать, идем. Я готов.
— Нога не слишком беспокоит?
— Нет.
— Может, хочешь еще подождать?
— Нет. Пошли.
— Иди к первому вагону, а переходя через канаву, постарайся не зацепить проводов, — советую я, помогая ему встать на ноги.
Только мы собрались выскочить из зарослей и со всех ног броситься к нашим вагонам, как раздалось верещанье электрического звонка. Колотился маленький измученный колокольчик, звук был прерывистый, задыхался, норовил замереть, а звонивший, чудилось нам, обитал где-то на другом краю земли, я готов был дать руку на отсечение, что этот ржавый звонок через секунду-другую совсем выйдет из строя, но тот, действуя нам на нервы своей монотонной тягучестью, все не стихал.
Тин-глин-глин, тин-глин, тин-глин-глин.
Мы снова повалились в траву.
Прошло больше четверти часа.
Женомор принялся напевать: «О-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля».
А звонок, звучавший для нас похоронным звоном, все продолжал тренькать.
Мы были не в силах больше это терпеть.
Но вот распахнулась дверь и наружу высыпали, сплевывая себе под ноги, рабочие-путейцы. Там и сям замелькали огоньки. Между путями зажглись фонари. Стрелочник зашел в свою будку, и стрелки с лязгом передвинулись. Меж тем с севера донесся, нарастая, шум, и к платформе подполз поезд. Длинный товарный состав. Паровоз закашлялся и остановился. Начались маневры с вагонами. Часть их отцепили. А затем бригада путейцев направилась к первому вагону с нашей квашеной капустой.
— Морик, внимание. Сейчас наш черед. Это шанс, и им надо воспользоваться!