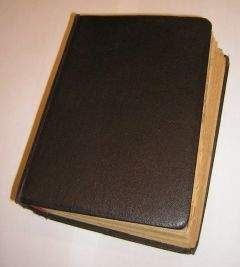— А я боялся, что вы дадите, — заметил Швейк. — Этим бы вы испортили весь рассказ. Такое благородство встречается только в романах, а в гарнизонной тюрьме это было бы просто глупостью.
— А темную вы ему не делали? — спросил кто-то.
— Нет, забыли.
В шестнадцатой открылась неторопливая дискуссия, следовало сделать скупердяю темную или нет. Большинство высказалось «за».
Разговор понемногу затих. Арестанты засыпали, скребя под мышками, на груди и на животе, где вшей в белье водится особенно много. Засыпали, натягивая завшивевшие одеяла на голову, чтобы не мешал свет керосиновой лампы.
В восемь часов Швейка вызвали и приказали идти в канцелярию.
— Налево у двери канцелярии стоит плевательница. Там бывают окурки, — поучал Швейка один из арестантов. — А на втором этаже стоит еще одна. Лестницу метут в девять, так что там сейчас что-нибудь отыщется.
Но Швейк не оправдал их надежд. Больше в шестнадцатую он не вернулся. Девятнадцать подштанников судили и рядили об этом на все лады.
Веснушчатый ополченец, обладавший самой необузданной фантазией, объявил, что Швейк стрелял в своего ротного командира и его нынче повели на Мотольский плац на расстрел.
ГЛАВА X ШВЕЙК В ДЕНЩИКАХ У ФЕЛЬДКУРАТА I
Швейковская одиссея снова развертывается под почетным эскортом двух солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Они должны были доставить его к фельдкурату.
Эти двое солдат взаимно дополняли друг друга: один был худой и долговязый, другой, наоборот, — маленький и толстый; верзила прихрамывал на правую ногу, маленький — на левую. Оба служили в тылу, так как до войны были вчистую освобождены от военной службы. Оба с серьезным видом топали по мостовой, изредка поглядывая на Швейка, который шагал между ними и по временам отдавал честь. Его штатское платье исчезло в цейхгаузе гарнизонной тюрьмы вместе с военной фуражкой, в которой он явился на призыв, и ему выдали старый мундир, ранее принадлежавший, очевидно, какому-то пузатому здоровяку, ростом на голову выше Швейка. В его штаны влезло бы еще три Швейка. Бесконечные складки, от ног и чуть ли не до шеи, — а штаны доходили до самой шеи, — поневоле привлекали внимание зевак. Громадная грязная и засаленная гимнастерка с заплатами на локтях болталась на Швейке, как кафтан на огородном пугале. Штаны висели, будто у клоуна в цирке. Форменная фуражка, которую ему тоже подменили в гарнизонной тюрьме, сползала на уши.
На усмешки зевак Швейк отвечал мягкой улыбкой и ласковым, теплым взглядом своих добрых глаз.
Так подвигались они к Карлину, где жил фельдкурат. Первым заговорил со Швейком маленький толстяк. В этот момент они проходили по Малой Стране под галереей.
— Откуда будешь?
— Из Праги.
— Не удерешь от нас?
В разговор вмешался верзила. Поразительное явление: если маленькие толстяки по большей части бывают добродушными оптимистами, то люди худые и долговязые, наоборот, в большинстве случаев скептики. Следуя этому закону, верзила возразил маленькому:
— Кабы мог, удрал бы!
— А на кой ему удирать? — отозвался маленький толстяк. — Он и так на воле, не в гарнизонной тюрьме. Вот пакет у меня.
— А что там, в этом пакете? — спросил верзила.
— Не знаю.
— Видишь, не знаешь, а говоришь…
Карлов мост они миновали в полном молчании. Но на Карловой улице маленький толстяк опять заговорил со Швейком:
— Ты не знаешь, зачем мы ведем тебя к фельдкурату?
— На исповедь, — небрежно ответил Швейк. — Завтра меня повесят. Так всегда делается. Это, как говорится, для успокоения души.
— А за что тебя будут… того? — осторожно спросил верзила, между тем как толстяк с соболезнованием посмотрел на Швейка.
Оба конвоира были ремесленники из деревни, отцы семейств.
— Не знаю, — ответил Швейк, добродушно улыбаясь. — Я ничего не знаю. Видно, судьба.
— Стало быть, ты родился под несчастливой звездой, — тоном знатока с сочувствием заметил маленький. — У нас в селе Ясенной, около Йозефова, еще во время прусской войны тоже вот так повесили одного. Пришли за ним, ничего не сказали и в Йозефове повесили.
— Я думаю, — скептически заметил долговязый, — что так, ни за что ни про что, человека не вешают. Должна быть какая-нибудь причина. Такие вещи просто так не делаются.
— В мирное время, — заметил Швейк, — может, оно и так, а во время войны один человек во внимание не принимается. Он должен пасть на поле брани или быть повешен дома! Что в лоб, что по лбу.
— Послушай, а ты не политический? — спросил верзила. По тону его было заметно, что он начинает сочувствовать Швейку.
— Политический, даже очень, — улыбнулся Швейк.
— Может, ты национальный социалист?89
Но тут уж маленький, в свою очередь, стал осторожным и вмешался в разговор.
— Нам-то что, — сказал он. — Смотри-ка, кругом пропасть народу, и все на нас глазеют. Если бы мы могли где-нибудь в воротах снять штыки, чтобы это… не так бросалось в глаза. Ты не удерешь? А то, знаешь, нам влетит. Верно, Тоник? — обратился он к верзиле.
Тот тихо отозвался:
— Штыки-то мы могли бы снять. Все-таки это наш человек. — Он перестал быть скептиком, и душа его наполнилась состраданием к Швейку.
Они вместе высмотрели подходящее место за воротами, сняли там штыки, и толстяк разрешил Швейку пойти рядом.
— Небось курить хочется? Да? — спросил он. — Кто знает…
Он хотел сказать: «Кто знает, дадут ли тебе закурить, перед тем как повесят», но не докончил фразы, поняв, что это было бы бестактно.
Все закурили, и конвоиры стали рассказывать Швейку о своих семьях, живущих в районе Краловеградца, о женах, о детях, о клочке землицы, о единственной корове…
— Пить хочется, — заметил Швейк.
Долговязый и маленький переглянулись.
— По одной кружке и мы бы пропустили, — сказал маленький, почувствовав, что верзила тоже согласен, — но там, где бы на нас не очень глазели.
— Идемте в «Куклик», — предложил Швейк, — ружья вы оставите там на кухне. Хозяин в «Куклике» — Серабона, сокол,90 его нечего бояться. Там играют на скрипке и на гармонике, бывают уличные девки и другие приличные люди, которых не пускают в «Репрезентяк».91
Верзила и толстяк снова переглянулись, и верзила решил:
— Ну что ж, зайдем, до Карлина еще далеко.
По дороге Швейк рассказывал разные анекдоты, и они в чудесном настроении пришли в «Куклик» и поступили так, как советовал Швейк. Ружья спрятали на кухне и пошли в общий зал, где скрипка с гармошкой наполняли все помещение звуками излюбленной песни «На Панкраце, на холме, есть чудесная аллея».
Какая-то барышня сидела на коленях у юноши потасканного вида, с безукоризненным пробором, и пела сиплым голосом:
Обзавелся я девчонкой,
А гуляет с ней другой.
За одним столом спал пьяный сардинщик.92 Время от времени он просыпался, ударял кулаком по столу, бормотал: «Не выйдет!» — и снова засыпал. За бильярдом под зеркалом сидели три девицы и хором кричали железнодорожному кондуктору:
— Молодой человек, угостите нас вермутом!
Неподалеку от музыкантов двое спорили о какой-то Марженке, которую вчера во время облавы «сцапал» патруль. Один утверждал, что видел это собственными глазами, другой же уверял, будто вчера она с одним солдатом пошла спать в гостиницу «Вальшум».
У самых дверей, в компании штатских, сидел солдат и рассказывал о том, как его ранили в Сербии. Одна рука у него была на перевязи, а карманы набиты сигаретами, полученными от собеседников. Он то и дело повторял, что больше уже не может пить, а один из компании, плешивый старикашка, без устали его угощал.
— Да выпейте уж, солдатик! Кто знает, свидимся ли когда еще? Велеть, чтоб вам сыграли? Попросить «Сиротку»?
Это была любимая песня лысого старика. И действительно, минуту спустя скрипка с гармошкой завыли «Сиротку». У старика выступили слезы на глазах, и он затянул дребезжащим голосом:
Чуть понятливее стала,
Все о маме вопрошала,
Все о маме вопрошала.
Из-за другого стола послышалось:
— Хватит! Ну их к черту! Катитесь вы с вашей «Сироткой»!
И, прибегнув к последнему средству убеждения, вражеский стол грянул:
Разлука, ах, разлука —
Для сердца злая мука.
— Франта, — позвали они раненого солдата, когда, заглушив «Сиротку», допели «Разлуку» до конца. — Франта, брось их, иди садись к нам! Плюнь на них и гони сюда сигареты. Брось забавлять этих чудаков!
Швейк и его конвоиры с интересом наблюдали за всем происходящим. Швейк — он часто сиживал тут еще до войны — пустился в воспоминания о том, как здесь, бывало, внезапно появлялся с облавой полицейский комиссар Драшнер и как его боялись проститутки, которые сложили про него песенку.