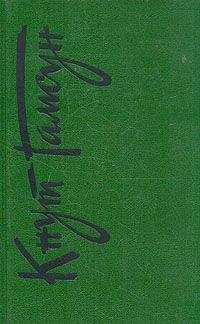— Не надо вамъ принимать это такъ близко къ сердцу, — попытался я уговорить ее. — Во всякомъ случаѣ, онъ никогда не вернется сюда.
— Ахъ, все это такъ нехорошо! — отвѣтила она. — Не слѣдуетъ разводиться; никому не слѣдуетъ. Можетъ быть, онъ все-таки живъ.
Мнѣ глубоко претили эти ея болѣзненныя воспоминанія, да къ тому же я какъ будто ревновалъ къ этому вѣчному Николаю, и вотъ я сказалъ:
— Ну, такъ дождетесь еще, онъ вернется.
Роза быстро взглянула на меня:
— Богъ вамъ прости!
Но я не хотѣлъ взять своихъ словъ назадъ, не хотѣлъ и смягчить ихъ; они были сказаны не сгоряча, и не Богъ вѣсть что я сказалъ. Вдобавокъ, я самъ не мало страдалъ; а она сколько-нибудь думала объ этомъ? Ничуть.
— Вамъ, можетъ быть, не понятно все это, — сказала она, — положеніе такое странное… Но, повѣрьте, не легко угодить всѣмъ… И разъ я уже была замужемъ… Я не въ томъ смыслѣ, что хотѣла бы вернуть его; но… какъ же мнѣ теперь быть съ Бенони? Николая я помню съ самой его юности. Онъ былъ такой весельчакъ, такой жизнерадостный, и я припоминаю много случаевъ изъ того времени, когда онъ былъ влюбленъ въ меня. А теперь что мнѣ вспоминать? Нечего. Теперь мнѣ только живется сытнѣе. Но что мнѣ отъ этого? У меня не остается даже какихъ-нибудь невинныхъ воспоминаній. А съ Николаемъ у меня связано ихъ не мало. Вы его не видали, но у него былъ такой красивый ротъ. И когда онъ облысѣлъ, я три мѣсяца каждый Божій день возилась съ его головой; волосъ у него прибавилось, но это не шло къ нему, такъ что я бросила хлопотать. Нѣтъ, онъ былъ хорошъ и безъ волосъ; лобъ у него былъ такой открытый, красивый. Да вотъ, я сижу тутъ и разсказываю вамъ все это, а зачѣмъ — сама не знаю. Не къ чему. И Бенони я тоже не могу ничего разсказать.
— Мнѣ казалось, что теперь у васъ пошло на ладъ съ вашимъ мужемъ? — сказалъ я.
— То-есть, съ Бенони? Да. Но мнѣ-то отъ этого не легче. Когда я подаю ему обѣдать, мнѣ кажется что я обдѣляю того, другого. Пожалуй, стыдно мнѣ говорить такъ, но, право, не слѣдовало бы никому разводиться, не слѣдовало бы тоже снова вступать въ бракъ; ничего хорошаго изъ этого не выходитъ.
— Фу, ты! — вырвалось у меня, и я досадливо наморщилъ лобъ.
— И это вы? А вамъ всегда было такъ больно видѣть мое отчаяніе. По крайней мѣрѣ, вы сами такъ говорили прежде, — сказала она, не помня себя отъ удивленія.
— Ну, да. Такъ оно и было и есть. Но вы все хнычете, няньчитесь съ этими воспоминаніями и сами себя разстраиваете.
— Но меня же обманули, сказавъ, что онъ умеръ! — вырвалось у нея. — И я опять вышла замужъ.
Я снова испустилъ вздохъ, еще сильнѣе наморщилъ лобъ и сказалъ ей въ отместку:
— А вы то прежде всегда были… такой сдержанной. Не откровенничали зря.
Стрѣла попала въ цѣль. Ей стало больно.
— Да, я сама не знаю, что со мной сталось. Должно быть, это ежедневное общеніе съ…
— Ну, что же оно..? Да что тамъ! Всегда найдется извиненіе! У меня теперь то извиненіе, что я былъ одно время ребенкомъ.
И этотъ выпадъ произвелъ дѣйствіе.
И пусть. Я рѣшительно не желалъ разыгрывать роль повѣреннаго, которому бы она вѣчно жаловалась; и я круто повернулся и ушелъ отъ нея. Что въ самомъ дѣлѣ воображали себѣ всѣ эти люди? Баронесса однажды безъ всякой церемоніи вошла ко мнѣ въ комнату, когда я еще былъ въ постели, и принялась разглядывать мои стѣны, на меня же и не взглянула. Я не забылъ этого. А Роза называла меня ребенкомъ. Мнѣ ставилось въ укоръ, что я въ свое время былъ прилеженъ и многому научился; рисовалъ получше многихъ живописцевъ и писалъ красками получше многихъ рисовальщиковъ. Самъ Тидеманъ, знаменитый художникъ Тидеманъ, былъ однажды у насъ въ домѣ, видѣлъ мои работы и одобрительно кивнулъ головой. Мнѣ тогда было девятнадцать лѣтъ. Ну, положимъ, я выучился играть на фортепьяно, что твоя барышня; но не всѣ-то барышни учились играть, въ томъ числѣ и сама баронесса, а я вотъ учился. Куда-же это я попалъ? Къ варварамъ, что-ли?
Я чувствовалъ такую горечь отъ всей этой несправедливости и пренебреженія; увы, я тогда еще не успѣлъ научиться смиренію. Теперь-же я отлично вижу, что былъ тогда не больше, какъ скромный, старательный юнецъ съ образованіемъ конторщика. Лишь съ годами я понялъ это.
Но, не смотря на всю мою горечь, я все-таки не чувствовалъ себя побѣжденнымъ. Нѣтъ, я, видно, только не такъ взялся за дѣло. И я долго ходилъ и раздумывалъ о томъ, что сдѣлалъ-бы на моемъ мѣстѣ Мункенъ Вендтъ? О, Мункенъ Вендтъ былъ молодецъ, ему все было нипочемъ; онъ-бы сказалъ: все это одни фокусы да ломанье; подайте мнѣ любви! Онъ-бы не сталъ проводить ночи, разглядывая звѣзды.
И я тоже не хотѣлъ больше заниматься этимъ.
Морозы все не наступали; снѣгъ падалъ на рыхлую землю. Снѣгу зато выпало много. И для того, чтобы проложить санный путь, дворникамъ пришлось, взявъ людей на подмогу, размести сугробы по дорогѣ къ лѣсу и мельницѣ. По ночамъ немножко подмораживало, такъ что на другой день уже можно было ѣздить по этой дорогѣ.
Я встрѣтилъ Крючкодѣла. Онъ былъ недоволенъ такой снѣжною зимою, такъ какъ теперь ему приходилось украдкой сушить перину Макка въ пивоварнѣ. Кончилось его вольное житье. Кромѣ того, онъ досадовалъ на своего сожителя по коморкѣ, старика Фредрика Мензу, который все не вставалъ съ постели, а помирать не помиралъ. Крючкодѣлъ заявилъ, что ни добромъ, ни зломъ нельзя было ничего подѣлать съ этой упрямой жизнью. Разъ онъ даже попытался было съ вечера заткнуть старику носъ шерстью. Что-же? На утро тотъ лежалъ себѣ, какъ ни въ чемъ не бывало, съ торчащими изъ носу клочками шерсти и дышалъ ртомъ. Просто одинъ соблазнъ и грѣхъ! Пришлось Крючкодѣлу самому повытаскать шерсть, а старикъ, какъ только носъ у него очистился, предовольно забормоталъ: Ту-ту-ту!
— И сказать нельзя, какъ онъ пакоститъ коморку! — жаловался Крючкодѣлъ на своего сожителя. — Я иногда прямо задохнуться готовъ, и у меня въ глазахъ темнѣетъ отъ обиды на такую скверность. Но какъ только раскрою на ночь окошко, сейчасъ ужъ кто-нибудь изъ дворни тутъ, какъ тутъ, и со всѣхъ концовъ пойдетъ крикъ, чтобы я закрылъ окошко, — Фредрикъ Менза, того гляди, простудится! Да пусть себѣ на здоровье простудится! Я такъ прямо и говорю. Ему, пожалуй, лѣтъ сто десять, сто двадцать. Фу, тошно и подумать о такой старости, Господи прости мнѣ! Это ужъ даже не по человѣчески такъ заживаться на бѣломъ свѣтѣ, а по скотски! Жретъ онъ день и ночь, и докторъ говоритъ, что все дѣло въ его крѣпкомъ желудкѣ. Ну, ужъ заболѣй онъ только животомъ и доведись мнѣ ставить ему припарки, я-бы такія закатилъ ему припарки! И вѣдь смысла никакого нѣтъ, что онъ такъ зажился. Пусть-бы Господь прибралъ его во имя Іисуса Христа! Тогда-бы коморка мнѣ одному досталась, а мнѣ это страсть какъ нужно. Мнѣ просто необходимо по ночамъ открывать окошко, но пока этотъ трупъ — готовъ я сказать — лежитъ тамъ и дышетъ, мнѣ не даютъ этого дѣлать. Ту-ту! только у него и разговору, когда не спитъ. Только это вовсе не разговоръ, а просто такъ себѣ, на вѣтеръ говорится. Я пробовалъ щебетать у него подъ ухомъ, чтобы помочь ему скоротать время. Но онъ только осклабится и такую рожу скорчитъ, словно я зубъ у него рву. Не стоитъ тоже и рубаху на немъ мѣнять, окончательно не стоитъ; онъ сію-же минуту опять весь замусолится; лежитъ всегда на крошкахъ да на кусочкахъ, и весь полъ вокругъ него заплеванъ!
Послушать Крючкодѣла — волосы дыбомъ становились. Дурной онъ былъ человѣкъ. Онъ забывалъ, что надобно почитать старость и лучше заставлять терпѣть молодыхъ, чѣмъ какъ-нибудь обидѣть старика. Я и отвѣтилъ ему, что онъ-бы сдѣлалъ доброе дѣло въ глазахъ людей и передъ Богомъ, еслибы всячески ухаживалъ за дряхлымъ призрѣваемымъ и не лѣнился-бы и подавать ему воду для питья и хорошенько укутывать его одѣяломъ. — Но я задыхаюсь отъ вони ночью! — завопилъ Крючкодѣлъ. Онъ былъ такой жестокосердый.
Зато онъ подолгу просиживалъ съ Туловищемъ, съ чувствомъ вспоминая Брамапутру. Вотъ ея уже нѣтъ въ живыхъ, а какъ ее всѣ любили! И Оле Человѣчекъ былъ хорошій и старательный, только никому житья не давалъ, поролъ горячку и былъ скоръ на расправу. А вотъ Брамапутра никогда не горячилась, была такая мягкая, ласковая, и нельзя было сказать про нее, что она брезговала истинной любовью, откуда-бы она ни шла.
— Да, да, — поддакивалъ Туловище, кивая своей огромной головой.
— А потому мы должны почитать ее въ ея сырой могилѣ! — заканчивалъ Крючкодѣлъ.
Наибольшую выгоду изъ этой дружбы извлекалъ Крючкодѣлъ. Туловище служилъ ему караульнымъ, когда онъ тайкомъ возился со своимъ дѣломъ въ пивоварнѣ, а кромѣ того, еще мишенью для всякаго рода насмѣшекъ и издѣвокъ. Но Туловище былъ такой силачъ и такъ ужасенъ въ гнѣвѣ, что разъ чуть не задушилъ своего мучителя, — такъ его притиснулъ, что Крючкодѣлъ и языкъ высунулъ, а потомъ нѣсколько дней ѣсть не могъ; больно неладно стало у него въ горлѣ.