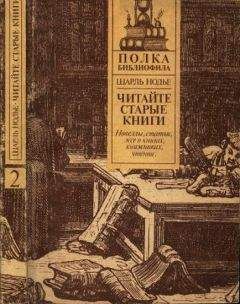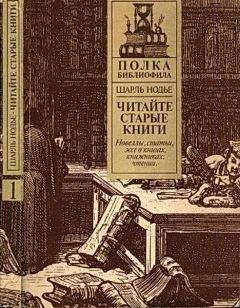Буало судил о Сирано{237} де Бержераке гораздо более справедливо, он не считал его сумасшедшим и со своей обычной проницательностью и точностью выражений писал о его ”шутовской дерзости”. Вот истинное определение или, как говорили в прежние времена, литературный ”герб” юного поэта, умершего от ран тридцати пяти лет от роду, в ту пору — я бы сказал, в тот день и час, — когда французский язык вот-вот должен был отлиться в совершенную форму под пером Корнеля — в стихах — и Паскаля — в прозе. Бержерак был одним из тех, кто обновлял слова, разнообразил формы и упорядочивал грамматику, можно даже сказать, что он делал это лучше других. Единственное, в чем можно его упрекнуть, не боясь погрешить против истины, — это непозволительная пышность фантазии, невыносимый избыток остроумия, тягостная смесь педантизма и грубости, выдающая недостаток воспитания. Проживи Бержерак еще пятнадцать лет, зрелые размышления прибавили бы ему вкуса и он сделался бы одним из замечательнейших писателей своего века. Отдадим же ему, по крайней мере, должное за то, что он успел сделать. Неужели одного лишь презрения заслуживает автор, создавший фигуры Пакье, Корбинелли и крестьянина Матье Гаро{238}, которым была суждена долгая жизнь в фарсах о Жилле и в комедии о Скапене, автор, у которого Мольер заимствовал прелестные эпизоды, а Лафонтен — героев, автор, который в некоторых сценах трагедии ”Агриппина” показал себя достойным соперником Корнеля? О том, чем обязаны ему Фонтенель, Свифт и Вольтер, уже говорилось. Что же касается книги, которую он писал, ”когда был уже помешан”, вы, наверное, немало удивитесь, узнав, что в ней содержится больше глубоких мыслей, остроумных предсказаний и смелых прозрений, до которых далеко и Декарту, чем во всем толстом томе, который Вольтер написал под диктовку маркизы де Шатле{239}. Сирано обходился со своим талантом не без сумасбродства — но безумцем он не был.
О стихотворениях Клода де Шольна
Перевод О. Гринберг
Сколько ни читайте библиографических трудов, вы не найдете в них ровно никаких сведений об этом поэте. С некоторой долей вероятности можно утверждать лишь, что он принадлежал к прославленному роду Шольнов и, быть может, приходился кузеном коннетаблю де Люину и маршалу Оноре д’Альберу, герцогу де Шольну, а также что жил и здравствовал он в середине XVII столетия, а стихи сочинял в свое удовольствие, не придавая им ни малейшего значения. Странно не то, что подобный поэт забыт, странно другое — что мы так мало знаем о столь знатном человеке, забавы ради слагавшем стихи; нашему герою решительно не повезло. Имя его кануло в Лету — это тем более странно, что при жизни он, судя по всему, имел успех среди ценителей поэзии. Живя в Дофине{240}, он вел переписку с герцогиней де Шольн, герцогом де Сент-Эньяном, Югом де Лионном и суперинтендантом Фуке — то есть с самым цветом аристократии — и был с ними на короткой ноге. Эта переписка, которую никак не обвинишь в излишней чопорности, содержится в рукописи, о которой я собираюсь вам рассказать; мы находим здесь стихотворные послания нашего поэта и его высокородных друзей, состязающихся с ним в блеске и остроумии шуток. Известно, что Франсуа де Бовилье, герцог де Сент-Эньян, галантнейший и обходительнейший человек во всей Франции, не без успеха волочился за музами и что именно он подсказал великому королю мысль о вознаграждениях для литераторов{241}, которым, следственно, надлежит чтить его память — хотя бы потому, что такие заступники находятся у них не так уж часто. Именитые вельможи — они же именитые граждане — наших дней не станут оспаривать у герцога эту честь, но горе-авторы и авторы-горемыки благодарны ему за то, что он ее заслужил. Так вот, рукопись наша содержит две-три сотни неизвестных строк герцога де Сент-Эньяна. При Людовике XIV это открытие наверняка наделало бы шуму, но мы ушли далеко вперед, и я упомянул о стихах герцога просто для памяти.
Если бы я писал только для библиофилов, ценящих на вес золота, если не дороже, трухлявые сборники виршей, единственное достоинство которых состоит в том, что они набраны скверным кривобоким шрифтом в типографии Филиппа Пигуше, Симона Вотра, Алена Лотриана или Жана де Шане, и к которым, признаюсь чистосердечно, я и сам питаю страсть столь же пылкую и столь же невинную, — так вот, если бы я писал только для библиофилов, я не стал бы распространяться об особенностях стихов Клода де Шольна. Для библиофилов главное то, что рукопись существует в единственном экземпляре и ни разу не продавалась с торгов. Вот чем исчерпывается для них ценность поэта. И все-таки по старой памяти я скажу несколько слов о том, что представляет собой эта рукопись в литературном отношении, — ведь я был критиком, хотя это занятие принесло мне гораздо меньше радости, чем мои библиоманские фантазии. Буду краток и выскажусь со свойственной газетчикам самоуверенностью; я сделаю это с тем большей легкостью, что знаю доподлинно: соперников у меня не найдется.
Век Людовика XIV был, что ни говори, веком великой поэзии; тогдашние трагедии и комедии для своего времени очень недурны. О легкой, домашней поэзии этого не скажешь. За исключением Лафонтена, поэта милостью Божией, она представлена одними посредственностями. А лет за двадцать — тридцать до Лафонтена, во времена Клода де Шольна и герцога де Сент-Эньяна, дела обстояли еще хуже. Влияние поэзии Скаррона, порочной, но имевшей свои притягательные стороны, оказалось пагубным. Бурлеск, этот романтизм XVII столетия{242}, подобно тому, как романтизм — бурлеск XIX столетия, завладел лучшими умами; от него не свободны даже Сарразен и Вуатюр{243}. Провинция, как водится, стремилась перещеголять столицу, и наш Клод де Шольн был, возможно, просто-напросто провинциальным Скарроном, как Сент-Эньян — Скарроном придворным. Будущий владелец рукописи распорядится ею, как ему заблагорассудится. Однако я не думаю, чтобы он отважился ее издать. Да, забавная это была бы книга — ”Стихотворения Клода де Шольна”, стихотворения интимные, самые интимные, какие только могут быть, но вовсе не похожие на интимные излияния{244} тех поэтов, чья единственная цель — убедить читателей в своей безграничной чувствительности, безграничной печали и безграничной набожности. Я убежден, что поэт из Дофине был не таков. Да я и не утверждаю, что он был поэт.
Клод де Шольн был острослов, сочинявший стихи с такой же легкостью, как адвокат сочиняет прозу. Жизнь он, по-видимому, вел самую анакреонтическую{245}, хотя и не обладал изяществом греческого стихотворца. Преданный всецело вину и любви, он рассуждает о них не как тонкий эпикуреец. Он пьет, как бочка, и любит, как мушкетер, и лишь достоинства его искупают его недостатки, а достоинства эти таковы, что позволили бы ему, живи он в наши дни, стать превосходным комическим актером — при условии, конечно, что таковые бы еще не перевелись окончательно. Он естествен, порой до банальности, весел, порой до сумасбродства; но главное — он естествен и весел, а остальное не суть важно.
Самое забавное в ”Стихотворениях Клода де Шольна”, которые можно считать любопытным дополнением к ”Мемуарам” Таллемана де Рео{246}, — картина общества, в котором вращался их автор. Цинизмом и развязностью Клод де Шольн превосходит Теофиля, Сигоня и Мотена{247}, причем его великосветские корреспонденты отвечают ему в том же тоне. Да что там! Он пишет красавице госпоже де Ревель послание по всей форме таким стилем, который смутил бы даже фигуранток захудалого театра. Вы думаете, госпожа де Ревель негодует, приходит в ярость? Ничего подобного! Госпожа де Ревель, которая также сочиняет стихи, и, поверьте, весьма неплохие, отвечает на дурачества де Шольна посланием еще более легкомысленным. А вот стихотворное послание к герцогине де Шольн, супруге маршала де Шольна, почтенной представительнице старшей ветви рода. Вы ждете чего-то серьезного — не тут-то было; кузен Клод посвящает госпожу де Шольн в тайну своей любви к служанке, служанке, которая свела его с ума, — одним словом, служанке… причем совершенно ясно, хотя впрямую об этом не говорится, чего добивается от служанки влюбленный Клод де Шольн. Честное слово, мы зря так кичимся нашим прогрессом. Дурные нравы — вовсе не наше изобретение. Всех дел не переделаешь.
Во времена Клода де Шольна вольность нравов, или распутство, была пороком более распространенным, чем вольность мыслей, или безбожие, но Клод де Шольн был не из тех, кто останавливается на полпути. Насмешливый скептик, ученик Дебарро и Сен-Павена — авторов, чьи уроки пригодились Фонтенелю, Сент-Эвремону, а позже и Вольтеру, он презирает всякую веру и поминает Господа и святых лишь ради того, чтобы лишний раз поглумиться над ними в стиле, которому позавидовал бы Парни{248}. Таким образом, книга его, столь долго пребывавшая в неизвестности, более чем достойна внимания всех любителей запрещенных старинных книг, ибо, если бы даже небу не было угодно, чтобы экземпляр, о котором мы ведем речь, был единственным, хотя скорее всего дело обстоит именно так, рукопись Клода де Шольна все равно числилась бы среди редких, — в том разряде, к какому наши здравомыслящие предки предусмотрительно относили все дурные сочинения. Впрочем, должен заверить, что дерзкое воображение де Шольна никогда не опускается ни до грубостей, ни до святотатства и редко переходит границы двусмысленной болтовни. Так что особенной поживы моим современникам здесь ждать не приходится.