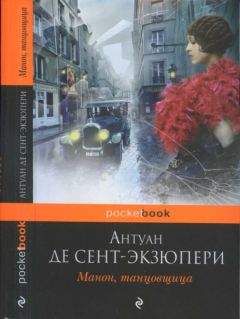Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым — и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.
Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и не горбатых, на фашистов и демократов — и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, — это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина — это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не «открыл» закон, долго остававшийся тайной, — так только ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина — не то, что доказуемо, истина — это простота.
К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.
Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми. А мы хотим бежать с каторги.
В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.
Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. У тех, для кого культура сводится к затверженным формулам, представление о ней самое убогое. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль. Но способен ли школяр мыслить, как они?
Все мы — кто смутно, кто яснее — ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей… Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего искали, ощутят единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть.
Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью, от– того что они — немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена.
Но эти идолы — идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть может, это и красиво — умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные центры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо.
Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения.
Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы — команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга.
Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства, — но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд — и вот он уже не просто слуга. Он — часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи.
Вы думаете, пастух не стремится осмыслить себя и свое место в жизни? На фронте под Мадридом я побывал в школе — была она на пригорке, за низенькой оградой, сложенной из камня, от окопов ее отделяло метров пятьсот. В этой школе один капрал преподавал ботанику. В грубых руках капрала был цветок мака, он осторожно разнимал лепестки и тычинки, и со всех сторон из окопной грязи, под грохот снарядов к нему стекались заросшие бородами паломники. Они окружали капрала, усаживались прямо на земле, поджав ноги, подперев ладонью подбородок, и слушали. Они хмурили брови, стискивали зубы, урок был им не очень-то понятен, но им сказали: «Вы темные, вы звери, вы только вылезаете из своего логова, нужно догонять человечество!» — и, тяжело ступая, они спешили вдогонку.
Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти.
Человек отходит с миром, когда смерть его естественна, когда где-нибудь в Провансе старый крестьянин в конце своего царствования отдает сыновьям на хранение своих коз и свои оливы, чтобы сыновья в должный срок передали их сыновьям своих сыновей. В крестьянском роду человек умирает лишь наполовину. В урочный час жизнь распадается, как стручок, отдавая зерна.
Однажды мне случилось стоять с тремя крестьянами у смертного ложа их матери. Это было горько, что говорить. Вторично рвалась пуповина. Вторично развязывался узел, соединявший поколение с поколением. Сыновьям вдруг стало одиноко, они себе показались неумелыми, беспомощными, больше не было того стола, за которым в праздник сходилась вся семья, того магнита, который их всех притягивал. А я видел, здесь не только рвутся связующие нити, но и вторично дается жизнь. Ибо каждый из сыновей в свой черед станет главою рода, патриархом, вокруг которого будет собираться семья, а когда настанет срок, и он в свой черед передаст бразды правления детишкам, что играют сейчас во дворе.
Я смотрел на мать, на старую крестьянку с лицом спокойным и суровым, на ее плотно сжатые губы — не лицо, а маска, высеченная из камня. И в нем я узнавал черты сыновей. Их лица — слепок с этой маски. Это тело формовало их тела — отлично вылепленные, крепкие, мужественные. И вот оно лежит, лишенное жизни, но это — безжизненность распавшейся оболочки, из которой извлекли зрелый плод. И в свой черед ее сыновья и дочери из плоти своей слепят новых людей. В крестьянском роду не умирают. Мать умерла, да здравствует мать!
Да, это горько, но так просто и естественно — мерная поступь рода: оставляя на пути одну за другой бренные оболочки поседелых тружеников, постоянно обновляясь, движется он к неведомой истине.
Вот почему в тот вечер в похоронном звоне, плывшем над деревушкой, мне слышалась не скорбь, а затаенная кроткая радость. Колокол, что славил одним и тем же звоном похороны и крестины, вновь возвещал о смене поколений. И тихой умиротворенностью наполняла душу эта песнь во славу обручения старой труженицы с землей.