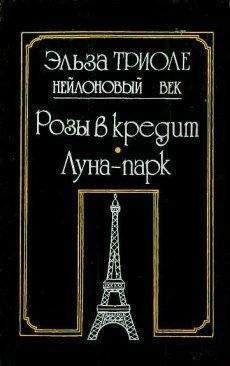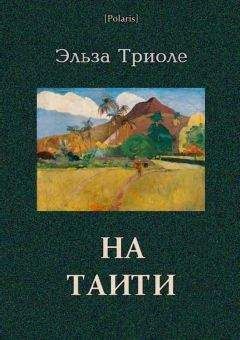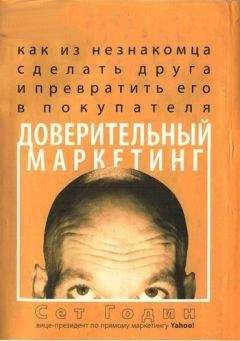Надо бы уметь быть грубым, называть вещи своими именами. В конце концов не надаешь же ты мне пощечин. Сколько времени я был твоим любовником? Неделю, два часа, целую жизнь? Ведь был же я твоим любовником. Ты, возможно, об этом забыла, а я нет. Прошу прощения, сударыня.
Забавно, я думал, что это никогда не кончится, что это всегда так и будет. Я буду вставать, одеваться, ходить на работу, диктовать письма, принимать посетителей… все это для вида, просто, чтобы дать тебе время передохнуть, побыть одной, побездельничать в своей спальне, привести в порядок ногти (вижу, как ты сидишь перед туалетным столиком, на ногтях у тебя сохнет лак – в ту педелю ты покрывала ногти очень светлым лаком, – и машешь руками с растопыренными пальцами, чтобы не задеть за что-нибудь)… Ведь, я возвращусь после этого многоточия, я возьму тебя на руки, еще и еще раз отнесу тебя на постель… Ах, да не могу я больше об этом говорить, не оттого что неловко, а просто мне очень больно, да нет, вовсе я не плачу… в мои-то годы! Но у меня по-дурацки взмокли глаза, пришлось снять очки, а то все как в тумане. Ну, вот и прошло.
Скажи, ты хотя бы раз спросила себя, как я потом… «устраивался»? А, что, скверное слово? – это обычное, это точное слово! Ведь так, кажется, принято говорить вподобных случаях? Следует говорить, как все люди, дабы не очень бросаться в глаза. И если ты себя не спрашивала, то просто потому, что думала: он устроился. Если ты меня не спрашивала. Так вот, дорогая, я не устроился. Совсем не устроился.
Не гляди на меня так. Теми глазами, какими ты смотришь, когда говоришь по телефону с мужчиной, который тебя не видит. Но я-то тебя вижу. Даже на Луне, на любой Луне. Неужели ты веришь, что можешь от меня уйти? Спрятаться? Не существует такой отдаленной Луны, ибо человеческий глаз видит бесконечно далеко… только предмет по мере удаления становится все меньше и меньше, и этот предмет – ты… Ведь так и говорят: «любимый предмет».
Иной раз я произношу глагол «любить» с яростью, гневом, ты слышишь меня, ты, там, паЛупе? Как я произношу слово «любить»? Этот глагол употребляется слишком часто, он прошел через тысячи губ, извел немало чернил. Он стал вполне приличным словом, вошедшим в галантный, светский лексикон на потребу дамам. Человек может произносить его не краснея, даже при детях. Только не я, слышишь? Только не я. Когда я говорю слово «любить», глагол этот становится непристойным, он словно те фотографии, что у Пале-Рояля продают из-под полы сутенеры. Любить! Подумать только, что существуют люди, которые произносят это слово, как… как… не могу даже придумать, как что. Слушай, Бланш, если хочешь знать, я просто никак не устроился. Да, я тебе об этом уже говорил. Тыменя знаешь, я человек, который повторяется. Это тоже непристойно. Унтер-офицерская шуточка. Нет, простое бахвальство. О, разреши мне чуточку побахвалиться. Ведь это же единственное, что мне осталось.
Конец письма был оторван. Кем? Бланш? Или самим корреспондентом? Рядом лежал еще один сложенный листок, на такой же бумаге, возможно, это было то же самое письмо, возможно, страничка другого письма, во всяком случае, почерк был тот же.
Холодно ли там, на Луне? Есть ли у тебя подходящая обувь, какая требуется для потухших планет? Захватила ли ты по крайней мере грелку? Есть ли на Луне горячая вода? Горячая вода – одно из чудес жизни. Это ты так говорила, я помню, это твои слова, дорогие твои слова. Когда холодно, горячая вода умиротворяет тело и успокаивает боль. Куда тебя унесли твои дорогие крошечные зябкие ножки? Где преклоняешь ты голову? Ну, а комната у тебя хорошая? Ведь есть же комната на Луне? Мне так хотелось бы послать тебе цветы. Я пошел к Бауманну, я сказал: «Можно ли послать камелии на Луну?» Продавщица, очевидно не расслышав, ответила: «Конечно, мсье, через „Инфлору“. Мы посылаем цветы повсюду… Вот только не знаю, есть ли в Луневилле камелии. Если камелий нет, то даме пошлют орхидеи… да, да, есть розовые орхидеи… сейчас выращивают орхидеи разных цветов…» И если бы ты только видела, какую гордость выражало ее лицо оттого, что фирма может удовлетворить любую прихоть покупателя…Есть ли на Луне цветы? Есть ли там камелии? Розовые или еще какие-нибудь. А когда тебе нездоровится, можно ли там приготовить отвар? Вкусная ли на Луне мята? Возможно, там есть только липовый чай… Липовый чай – это уже нечто лунное. Мне очень хотелось бы иметь твою карточку, снятую наЛуне. Карточку, чтобы вставить ее в мой альбом… знаменитый мой альбом… засовываешь уголки фотографии в четыре расположенных наискось надреза, часто это старые карточки, один уголок уже сломался… потом их кто-нибудь обнаружит, и, как тщательно фото ни закрепляй, они тоже стареют, даже если их прятать от света в книге. Обнаружат, прочтут выцветшую от времени надпись, с трудом разбирая мой ужасный почерк: «Бланш пьет на Луне липовый чай…» Кстати, ты ведь не одна на Луне? Ты об этом не говорила, но должен же быть там при тебе какой-нибудь человек, хотя бы для того, чтобы носить твой плед. Так вот, на фотографии позади тебя, немножко в стороне, на почтительном расстоянии, как обычно снимаются люди, знающие, что фотография делается не ради них, стоит мужчина, твой сотоварищ… должно быть, спортсмен, прошедший все необходимые, с научной точки зрения, физические испытания, конечно, дабы получить право стать твоим сотоварищем, носить на Луне твой плед, перекинув его через руку… само собой разумеется, на почтительном расстоянии.В конце концов, почему именно Луна? Когда существуют Марс и Венера? Что из них тебе больше к лицу? Марс или Венера? Ибо ты, очевидно, пренебрегла бы Римом, Брюсселем или Роморантэном. А я тем временем гнию на земле в ожидании того, когда буду гнить под землей. С клиентами я вежлив. Пытаюсь быть корректным с мадемуазель Мари – это моя секретарша, – сегодня она с утра в весьма нервном состоянии духа, потому что у нее нелады с пишущей машинкой, все время заедает ленту. Я глажу ладонью мой стол и снова вижу, лаская его, тот хмурый день в конце зимы, где-то неподалеку, на улице Жакоб был антикварный магазин, помню, как ты велела снять все безделушки, расставленные на столе, все веджвудовские и бронзовые статуэтки и сказала: «Думаю, что именно такой стол тебе и подойдет, такая красивая гладкая доска!» В тот день ты говорила мне «ты» даже в присутствии антикваров. У нас был вид молодоженов.Есть ли молодожены на Лупе? А антиквары? Английская мебель с прекрасно полированной поверхностью, так что можно в нее глядеться, как в зеркало?… И так сладко, думая о тебе, положить на нее ладони, словно это тебя ласкают мои руки.Простите, сударыня, больше не буду…
Тут несколько строчек были тщательно вымараны другими чернилами, темно-синими. Но кем? Тем человеком или Бланш?… ведь тут речь шла о Бланш. В гневе была зачеркнута и подпись. Ниже подписи можно было еще разобрать что-то вроде постскриптума, зачеркнутое менее густо:
Ах, да, из-за тебя я перечел «Трильби». Бесчеловечно было заставлять меня читать ее снова. Со мной все происходит как раз наоборот. Если я не пою больше, если я не могу больше петь, то лишь потому, что жена моя не приказывает мне теперь это!…
Жюстен положил письмо обратно в конверт. Он застонал сквозь плотно стиснутые губы. Он ревновал, он жестоко ревновал к любви, которая не выпала на его долю. В круге света, очерченном опалово-белой лампой, Жюстен Мерлэн, всемирно известный кинорежиссер, уронив голову на бювар Бланш, рыдал от нервного напряжения и усталости.
* * *
Когда луч солнца проскользнул между неплотно задвинутыми занавесками, он застал Жюстена в той же позе – он сидел, прижавшись лицом к груде писем, – все тело ломило. Который час? Половина восьмого. Он отдернул длинные набивные занавески, и солнце, как лев, одним прыжком вскочило в комнату, потрясая своей сверкающей гривой над золочеными корешками книг, над примятым венчиком Жюстена и притушило лунный свет опалово-белой лампы. Золотой денек! С минуту Жюстен глядел на письма, разбросанные по столу, взял корзинку для бумаг, смел их туда, поставил корзинку на пол, потянулся всем телом и зверски зевнул. Хватит выдумывать! Он становится смешным, нелепым.
Душ, и Жюстен в пижаме начал делать утреннюю зарядку, глубоко дышал, ложился на пол, вставал… Ну и кошмарная ночь! Он отправится гулять на весь день. Сгоняет, к примеру, в Барбизон… В конечном счете Жюстен не совсем еще освободился от «Трильби», и он почувствовал вдруг, что будет весьма любопытно ознакомиться с местами, где происходило действие романа.
В Фонтенбло он встретил знакомых, они потащили его с собой в «Отель Англетер» выпить стаканчик, пообедать, и он возвратился домой только к ночи, ведь Фонтенбло, оно же у черта на рогах. Люди, которых он там встретил, не успели ему наскучить, и было даже приятно услышать последние новости о Париже, о кино… Когда уезжаешь на некоторое время – скоро уже два месяца, как быстро, просто до сумасшествия быстро летит время! – так вот, когда ты уезжаешь на некоторое время, приятно поболтать немножко с людьми, именно поболтать и именно немножко.