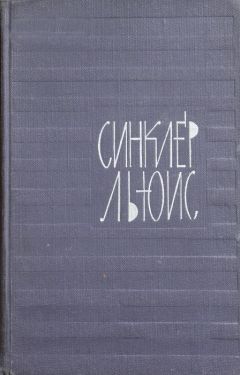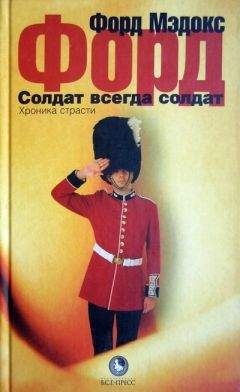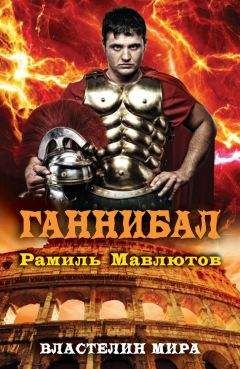Переделать город? Все, чего она теперь хотела, это чтобы ее самое не трогали.
Она никому не могла смотреть в глаза. Она краснела перед людьми, которые неделю назад забавляли ее своим видом и манерами, в их пожеланиях «доброго утра» она слышала жестокий затаенный смех.
В лавке Оле Йенсона она встретилась с Хуанитой Хэйдок. Кэрол умоляюще начала:
— А-а, как поживаете? Боже, какой дивный сельдерей!
— Да, с виду очень свежий. Гарри требует, чтобы по воскресеньям непременно был сельдерей. Несносный человек!
Кэрол, ликуя, вылетела из лавки. «Она не смеялась надо мной!.. Кажется, не смеялась?»
Через неделю она оправилась от чувства неуверенности и стыда, но продолжала избегать людей. Она ходила по улицам, опустив голову. Завидя впереди миссис Мак-Ганум или миссис Дайер, она переходила на другую сторону, внимательно разглядывая какую-нибудь вывеску. Она все время играла роль — для всех, кого видела, и для скрытых в засаде прищуренных глаз, которых не видела.
Она убедилась, что Вайда Шервин сказала правду, Входила ли она в лавку, подметала ли заднее крыльцо своего дома, стояла ли у окна в гостиной, городок потихоньку следил за ней. Раньше она смело шагала по улице, торжествуя, что строит свое гнездо. Теперь она косилась на каждый дом и, добравшись до своего, чувствовала, что прорвалась сквозь толпу врагов, вооруженных насмешкой. Она твердила себе, что такая чувствительность нелепа, но каждый день заново повергал ее в панику. Она замечала, как с невинным видом задергивались оконные занавески, будто их никогда и не приоткрывали. Старухи, уже вошедшие в дом, высовывались снова поглядеть на нее, и в морозной тишине она слышала, как они топтались за дверьми. Даже когда в сумерки она забывала на час об этих глазах-прожекторах и пробиралась по улицам, радуясь желтым окнам на фоне серой ночи, сердце у нее останавливалось, потому что она вдруг замечала голову в накинутой шали, следившую за ней из-за покрытого снегом куста.
Кэрол решила, что придает чрезмерное значение своей особе; что провинциалы глазеют на всякого. Это успокоило ее, и она была довольна таким философским подходом к вопросу. Но на следующее утро она снова чуть не сгорела от стыда, войдя к Луделмайеру. Бакалейщик, его продавщица и истеричная миссис Дэйв Дайер чему-то смеялись. И вдруг смущенно замолчали, потом, запинаясь, заговорили о луковицах. Кэрол почувствовала, что причиной неловкости была она. Когда в этот вечер Кенникот повел ее в гости к чудаковатым мистеру и миссис Лаймен Кэсс, хозяева, как ей показалось, были смущены их внезапным появлением.
— Что это вы нос повесили, Лайм? — дружески воскликнул Кенникот.
Кэссы смущенно бормотали что-то невнятное.
За исключением Дэйва Дайера, Сэма Кларка и Рэйми Вузерспуна, не было ни одного торговца, в чьем расположении Кэрол была бы уверена. Она знала, что ей только мерещится насмешка в их приветствиях, но она не могла совладать со своей подозрительностью, оправиться от морального потрясения. Она то злилась, то старалась не замечать тона превосходства, которым говорили с ней торговцы. Они не сознавали, что были грубы с нею, они просто хотели показать, что их дела идут прекрасно и что им нечего считаться ни с какими «докторскими женами». Они часто говорили: «Для нас любой человек не хуже другого и даже намного лучше!» Но этот девиз они не распространяли на покупателей фермеров, пострадавших от неурожая. Лавочники-янки были особенно нелюбезны. А Оле Йенсон, Луделмайер и Гус Даль хотели, чтобы их принимали за янки. Джеймс Медисон Хоуленд, родившийся в Нью-Гэмпшире, и Оле Йенсон, родившийся в Швеции, оба доказывали, что они свободные американские граждане, ворча: «Не знаю, есть ли у меня то, что вы спрашиваете», или «Ну, знаете, не берусь доставить это вам на дом к двенадцати».
Чтобы соблюсти хороший тон, покупатель должен был дать отпор. Хуанита Хэйдок мило верещала: «Если покупка не будет у меня к двенадцати, я вашему рассыльному все волосы выдеру!» Но Кэрол была неспособна к этой игре и не умела перебрасываться дружелюбными грубостями. Она завела малодушную привычку ходить по возможности только к Экселу Эгге.
Эксел не пользовался в городе уважением и не был груб. Он все еще оставался чужаком и мирился с тем, что чужаком и останется. Он был неповоротлив и нелюбопытен. В его заведении царил больший сумбур, чем в любом придорожном ларьке. За исключением самого Эксела, никто не сумел бы там разобраться. Кипа детских чулок лежала на полке под одеялом, другая — в ящике с имбирном печеньем, а остаток, как клубок черных змей, свернулся на бочонке с мукой, затиснутом между швабрами, норвежскими библиями, сушеной треской, ящиками с абрикосами и полутора парами прорезиненных сапог для дровосеков. В лавке постоянно толпились фермерши — шведки и норвежки — в шалях и старомодных бурых жакетах, поджидавшие тут своих повелителей. Они разговаривали по-норвежски и по-шведски и безразлично поглядывали на Кэрол. Это было облегчением для нее: они-то по крайней мере не шептали, что она ломака!
Однако себя ей приходилось убеждать, что лавка Эксела Эгге «так живописна и романтична!».
Чувствительнее всего она была теперь к насмешкам над ее туалетами.
Когда она однажды осмелилась выйти в город в новом клетчатом костюме с черно-желтым воротником, она тем самым как бы пригласила к обсуждению своей особы весь Гофер-Прери, который ничем так не интересовался, как новыми платьями и их стоимостью. Это был изящный костюм, покроя, совершенно непохожего на длиннохвостые желтые и розовые платья горожанок. Физиономия вдовы Богарт, стоявшей в дверях, говорила: «Ну, я в жизни не видела ничего подобного!» Миссис Мак-Ганум остановила Кэрол на улице.
— Ах, какой прелестный костюм, верно, ужасно дорогой?
Орава молодых бездельников перед аптекарским магазином тоже высказывала свои суждения:
— Эй, Паджи, сыграем в шашки на этом платье!
Кэрол не выдержала. Она запахнула шубку и торопливо застегнула пуговицы. Юнцы давились от смеха.
II
Никто не раздражал Кэрол так, как эти юные ротозеи, изображавшие из себя людей бывалых, прошедших огонь и воду.
Она пыталась убедить себя, что естественная жизнь на лоне природы, на свежем воздухе, у озер, где можно удить рыбу и плавать, здоровее искусственной жизни больших городов. Но ее просто убивал вид целой орды парней от четырнадцати до двадцати лет, торчавших перед аптекарским магазином Дайера. Они курили, выставляли напоказ свои франтовские ботинки, красные галстуки и куртки с гранеными пуговицами, насвистывали негритянские песенки и кричали вслед каждой проходившей девушке: «Эй, куколка!»
Кэрол видела, как они резались на бильярде в вонючей комнате позади парикмахерской Дэла Снэфлина, встряхивали игральные кости в «Курительном доме» и, ухмыляясь, толпились вокруг Берта Тайби, бармена «Минимеши-хауза», чтобы послушать его «смачные истории». Они причмокивали слюнявыми губами при каждой любовной сцене на киносеансах во «Дворце роз». Пожирая у прилавка греческой кондитерской невероятные смеси из подгнивших бананов, кислых вишен, взбитых сливок и желатинового мороженого, они огрызались друг на друга: «Эй, осади назад!», «Сказано тебе, п-шел вон! Гляди, ты мне чуть стакан не опрокинул», «Врешь, сукин сын!», «Эй, чтоб тебе! Не тычь своим вонючим пальцем мне в мороженое!», «Батти, ну как, потанцевал вчера с Тилли Мак-Гайр? Пощупал девчонку, а?».
Впрочем, прилежно изучая американскую беллетристику, Кэрол узнала, что только так и должны себя вести подрастающие мужчины Америки. Юноши, чьи речи, вид и ухватки не приводили на ум уличную канаву и одновременно дикий золотой прииск, считались неженками, и о них говорили с сожалением. Кэрол принимала это как нечто неизбежное. Она смотрела на подростков с состраданием, но без какого-либо личного интереса. Ей и в голову не приходило, что она может столкнуться с ними ближе.
Скоро она сделала открытие, что все они хорошо ее знают, что они только и ждут от нее какого-нибудь неверного шага, чтобы поднять ее на смех. Ни одна школьница не краснела так, проходя мимо их наблюдательных постов, как докторша Кенникот. Сгорая от стыда, она чувствовала, что они одобрительно щурятся на ее обсыпанные снегам ботики и высказывают свое мнение о ее ногах. В их глазах не было молодости, молодости нет во всем городе, с горечью думала она. Они родились старыми, злыми, со страстью к шпионству и пересудам.
Особенно сокрушалась она о старообразности и ранней жестокости этих юношей в тот день, когда случайно подслушала разговор Сая Богарта и Эрла Хэйдока.
Сайрус Богарт, сын той самой набожной вдовы, что жила в доме напротив, был в то время мальчуганом лет четырнадцати-пятнадцати. Кэрол успела уже достаточно познакомиться с ним. В первый же вечер по приезде ее в Гофер-Прери он явился во главе банды мальчишек, отчаянно барабаня в испорченный автомобильный щиток, и устроил настоящий кошачий концерт. Его товарищи выли, как койоты. Кенникот почувствовал себя весьма польщенным. Он вышел и роздал мальчишкам мелочи на целый доллар. Но Сай был деловым человеком. Он возвратился с новым отрядом, у которого было уже три автомобильных щитка и карнавальная трещотка. Когда Кенникот снова прервал свое бритье, Сай прогнусавил: «Ну, теперь это будет стоить вам два доллара!»- и получил их. Неделей позже Сай прикрепил к окну их гостиной колотушку, и постукивание, доносившееся из темноты, напугало Кэрол до слез. С тех пор, за четыре месяца, ей довелось наблюдать, как он вешал кошку, крал дыни, швырял, помидоры в дом Кенникотов и оставлял следы лыж на их газоне. Она слышала также, как он громогласно и с потрясающим знанием дела объяснял кому-то тайну деторождения. Одним словом, это был редкий образец того, что могут сделать захолустный городишко, строгие учителя, здоровый народный юмор и благочестивая мать из смелой и деятельной натуры.