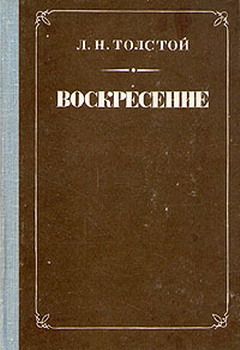Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит четырехлетнего коротко обстриженного пробегавшего мимо нее толстопузого, заливавшегося смехом мальчика. Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо нее и приговаривал все одно и то же: «Ишь, не поймала!» Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила свое заключение с величайшим добродушием, сокрушаясь только о сыне, сидевшем с ней одновременно в остроге, но более всего о своем старике, который, она боялась, совсем без нее завшивеет, так как невестка ушла и его обмывать некому.
Кроме этих семи женщин, еще четыре стояли у одного из открытых окон и, держась за железную решетку, знаками и криками переговаривались с проходившими по двору теми самыми арестантами, с которыми столкнулась Маслова у входа. Одна из этих женщин, отбывавшая наказание за воровство, была большая, грузная, с обвисшим телом рыжая женщина, с желтовато-белыми, покрытыми веснушками лицом, руками и толстой шеей, выставлявшейся из-за развязанного раскрытого ворота. Она громко кричала в окно хриплым голосом неприличные слова. С ней рядом стояла, ростом с десятилетнюю девочку, черноватая нескладная арестантка с длинной спиной и совсем короткими ногами.
Лицо у ней было красное, в пятнах, с широко расставленными черными глазами и толстыми короткими губами, не закрывавшими белые выпирающие зубы.
Она визгливо, урывками, смеялась тому, что происходило на дворе.
Арестантка эта, прозывавшаяся Хорошавкой за свое щегольство, судилась за кражу и поджог. Позади их стояла в очень грязной серой рубахе жалкого вида худая, жилистая и с огромным животом беременная женщина, судившаяся за укрывательство кражи. Женщина эта молчала, но все время одобрительно и умиленно улыбалась на то, что происходило на дворе. Четвертая, стоявшая у окна, была отбывающая наказание за корчемство невысокая, коренастая деревенская женщина с очень выпуклыми глазами и добродушным лицом. Женщина эта — мать мальчишки, игравшего с старушкой, и семилетней девочки, бывшей с ней же в тюрьме, потому что не с кем было оставить их, — так же, как и другие, смотрела в окно, но не переставая вязала чулок и неодобрительно морщилась, закрывая глаза, на то, что говорили со двора проходившие арестанты. Дочка же ее, семилетняя девочка с распущенными белыми волосами, стоя в одной рубашонке рядом с рыжей и ухватившись худенькой маленькой ручонкой за ее юбку, с остановившимися глазами внимательно вслушивалась в те ругательные слова, которыми перекидывались женщины с арестантами, и шепотом, как бы заучивая, повторяла их. Двенадцатая арестантка была дочь дьячка, утопившая в колодце прижитого ею ребенка. Это была высокая, статная девушка с спутанными волосами, выбивавшимися из недлинной толстой русой косы, и остановившимися выпуклыми глазами. Она, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее, ходила босая и в одной грязной серой рубахе взад и вперед по свободному месту камеры, круто и быстро поворачиваясь, когда доходила до стены.
Когда загремел замок и Маслову впустили в камеру, все обратились к ней.
Даже дочь дьячка на минуту остановилась, посмотрела на вошедшую, подняв брови, но, ничего не сказав, тотчас же пошла опять ходить своими большими, решительными шагами. Кораблева воткнула иголку в суровую холстину и вопросительно через очки уставилась на Маслову.
— Э, эхма! Вернулась. А я таки думала, что оправят, — сказала она своим хриплым, басистым, почти мужским голосом. — Видно, закатали.
Она сняла очки и положила свое шитье рядом на нары.
— Мы и то с тетенькой, касатка, переговаривались, може, сразу ослобонят. Тоже, сказывали, бывает. Еще и денег надают, под какой час попадешь, — тотчас же начала своим певучим голосом сторожиха. — АН, вот оно что. Видно, сгад наш не в руку. Господь, видно, свое, касатка, — не умолкая, вела она свою ласковую и благозвучную речь.
— Ужли ж присудили? — спросила Федосья, с сострадательной нежностью глядя на Маслову своими детскими ясно-голубыми глазами, и все веселое молодое лицо ее изменилось, точно она готова была заплакать.
Маслова ничего не отвечала и молча прошла к своему месту, второму с края, рядом с Кораблевой, и села на доски нар.
— Я чай, и не поела, — сказала Федосья, вставая и подходя к Масловой.
Маслова, не отвечая, положила калачи на изголовье и стала раздеваться: сняла пыльный халат и косынку с курчавящихся черных волос и села.
Игравшая на другом конце нар с мальчиком горбатая старушка подошла тоже и остановилась против Масловой.
— Тц, тц, тц! — жалостливо покачав головой, защелкала она языком.
Мальчишка подошел тоже за старушкой и, широко открыв глаза и выпятив уголком верхнюю губу, уставился на калачи, которые принесла Маслова. Увидав все эти сочувственные лица после всего того, что с ней было нынче, Масловой захотелось плакать, и у ней задрожали губы. Но она старалась удержаться и удерживалась до тех пор, пока не подошла старушка и мальмишка. Когда же она услыхала доброе, жалостливое тцыканье старушки и, главное, когда встретилась глазами с мальчишкой, переведшим свои серьезные глаза с калачей на нее, она уже не могла удерживаться. Все лицо ее задрожало, и она разрыдалась.
— Я говорила: добывай защитника настоящего, — сказала Кораблева. — Что же, на высылку? — спросила она.
Маслова хотела ответить и не могла, а, рыдая, достала из калача коробку с папиросами, на которой была изображена румяная дама в очень высокой прическе и с открытой треугольником грудью, и подала ее Кораблевой.
Кораблева поглядела на картинку, покачала неодобрительно головой, преимущественно на то, что Маслова так дурно тратила деньги, и, достав одну папироску, закурила ее о лампу, затянулась сама, а потом сунула Масловой.
Маслова, не переставая плакать, жадно стала раз за разом втягивать в себя и выпускать табачный дым.
— Каторга, — проговорила она, всхлипывая.
— Не боятся они бога, мироеды, кровопийцы проклятые, — проговорила Кораблева. — Ни за что засудили девку.
В это время среди оставшихся у окон женщин раздался раскат хохота.
Девочка тоже смеялась, и ее тонкий детский смех сливался с хриплым и визгливым смехом других трех. Арестант со двора что-то сделал такое, что подействовало так на смотревших в окна.
— Ах, кобель бритый! Что делает, — проговорила рыжая и, колеблясь всем жирным телом, прижавшись лицом к решеткам, закричала бессмысленно неприличные слова.
— То-то шкура барабанная! Чего гогочет! — сказала Кораблева, покачав головою на рыжую, и опять обратилась к Масловой:
— Много ли годов?
— Четыре, — сказала Маслова, и слезы полились так обильно из ее глаз, «то одна попала на папиросу.
Маслова сердито скомкала, бросила ее и взяла Другую.
Сторожиха, хотя и не курившая, тотчас же подняла окурок и стала расправлять его, не переставая разговаривать.
— Видно, и вправду, касатка, — говорила она, — правду-то боров сжевал.
Делают, что хотят. Матвеевна говорит: ослобонят, а я говорю: нет, говорю, касатка, чует мое сердце, заедят они ее, сердешную, так и вышло, — говорила она, с удовольствием слушая звук своего голоса.
В это время арестанты уж все прошли через двор, и женщины, переговаривавшиеся с ними, отошли от окон и тоже подошли к Масловой. Первая подошла пучеглазая корчемница с своей девочкой.
— Что же дюже строго? — спросила она, подсаживаясь к Масловой и продолжая быстро вязать чулок.
— Оттого и строго, что денег нет. Были бы денежки да хорошего ловчака нанять, небось оправдали бы, — сказала Кораблева. — Тот, как бишь его, лохматый, носастый, — тот, сударыня моя, из воды сухого выведет. Кабы его взять.
— Как же, взяла, — оскалив зубы, сказала подсевшая к ним Хорошавка, — тот меньше тысячи и плюнуть тебе не возьмет.
— Да уж, видно, такая твоя планида, — вступилась старушка, сидевшая за поджигательство. — Легко ли: отбил жену у малого, да его же вшей кормить засадил и меня туды ж на старости лет, — начала она в сотый раз рассказывать свою историю. — От тюрьмы да от сумы, видно, не отказывайся. Не сума — так тюрьма.
— Видно, у них все так, — сказала корчемница и, вглядевшись в голову девочки, положила чулок подле себя, притянула к себе девочку между ног и начала быстрыми пальцами искать ей в голове. — «Зачем вином торгуешь?» — А чем же детей кормить? — говорила она, продолжая свое привычное дело.
Эти слова корчемницы напомнили Масловой о вине.
— Винца бы, — сказала она Кораблевой, утирая рукавами рубахи слезы и только изредка всхлипывая.
— Гамырки? Что ж, давай, — сказала Кораблева.
Маслова достала из калача же деньги и подала Кораблевой купон.
Кораблева взяла купон, посмотрела и, хотя не знала грамоте, поверила все знавшей Хорошавке, что бумажка эта стоит два рубля пятьдесят копеек, и полезла к отдушнику за спрятанной там склянкой с вином. Увидав это, женщины — не соседки по нарам — отошли к своим местам. Маслова между тем вытряхнула пыль из косынки и халата, влезла на нары и стала есть калач.