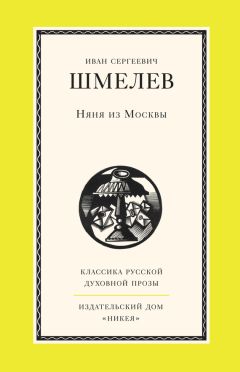Проветривали все нас, заразу. Все приели, стал народ голодать. А сверху сказывали: дух какой на кухнях, говядину все жарют, и котлеты-биштексы, а у матросов борщ – ложкой не промешать… и быков подвозят, и барашков, а сыр колесами прямо катят, – от духу не устоять. Старик-калмык, тощий-тощий, и говорит-икает: «бабушек, помирай моя, помирай твоя». Легли оба набочок, глаза завели – стали помирать. А у них сынки на военном корабле плыли, казаки. Ну, отходили мы старичков, помог Господь – прокормили.
Дозволило начальство подъезжать на лодках. Греки, турки, азияты – всего навезли: и хлеб белый, и колбаска, и… Хлебцем манят, сарди-нками, – «пиджак, бараслет давай!» А на них сверху глядят, голодные. Часы, порсигары, цепочки… – на веревочках опускали, а им хлебец-другой, – вытаскивай. Которые и смеялись, с горя: «во, рыбу-то заграничную как ловим!» Офицера все шинельки променяли, нечем покрыться стало. Женщины обручальные кольца опускали, со слезами. Плюют сверху на иродов, а им с гуся вода, давай только. В два дня весь наш корабль обчистили. Казак один сорвал с себя крест, – «на, – кричит, – иуда, продаю душу, давай пару папиросок!» Батюшка увидал, – «да что ты делаешь-то, дурной?! да ты ирода того хуже, Христа на папироску меняешь!» Снял обручальное кольцо, сменял на коробку папиросок, стал раздавать отчаянным.
Да разве всего расскажешь. А то слух дошел – войску нашу на голые камни вывезли, проволокой замотали, и хлеба не дают. Уж наше начальство устыдило: Бога побойтесь, все добро с пароходов себе забрали, и мы союзные вам были!..
А как нам вылезать, попечительши пришли, безначальных девушек в приют звать: все вам, только Евангелие читайте. Набрали пять барышень, увезли. И что же, барыня, потом узналось: паскуды оказались, фальшивую бумагу начальству показали, а сами барышнев… в такие дома! Хватились, а паскуды на корабле уплыли.
Стали нас выпускать, на зорьке было. Глядим, а на море, чисто на облаках, башенки белые стоят, колоколенки словно наши, – Костинтинополь в тумане светится. А это мечети ихние, с месяцами все. Поглядела – заплакала.
На разные острова нас вывели. Нас на хороший определили, и церковка там была, грецкая. Отвели дом, сарай вроде, мангалы мы все грели, жаровенки, а то зима там лю-тая, не дай Бог. А как же, и досмотр был, ихний капитан доглядывал, мы его ежом звали, такой-то ненавистный. На общий котел давалось, жалости достойно. Месяц протомились, и приезжает вдруг к нам полковник, главный их левизор… трубку он все курил. Разговорился с Катичкой – очень расположился: «давно, – говорит, – про вас слышу, как вы моих офицерей отчитали… вы достойная барышня, как наша англичанская». Высокой-голенастый, лет уж за сорок, а такой молодец. К нам в комнатку зашел-посидел, будто знакомый. И велел в Костинтинополь ездить, купить чего. И вдруг нам цельную корзину привезли гостинцев, от полковника того, к Рождеству. А на Крещенье – получает Катичка золотую бумагу, пожаловать на бал: приедет адъютант, заберет. А она умная, – поеду, говорит, чего, может, и схлопочу. С букетом воротилась. Сам полковник, говорит, все танцы с ней танцевал. Она про Васеньку и закинула, где он. Недели не прошло, опять к нам, досматривать. И дает Катичке бумажку, про Васеньку. И спрашивает, – «как вам полковник Коров приходится?» – коровой его назвал. А она прикинула, – у-мная ведь она! – «это мой дяденька», – сказала. Обещал с острова нас спустить.
И влюбился он в Катичку. Отвезли нас на корабле, такой почет нам. А он холостой. Объяснил Катичке про себя, какое у него в Англии именье-дворец, – сразу она и поняла – влюбился и влюбился. А с Васенькой уж снеслась, и письмо от него пришло. Она и скажи полковнику: «не дяденька мне полковник, а знакомый». Так это посмотрел – сказал: «русские женщины самые коварные, но я всегда готов вам услужить». Благородней нельзя сказать. А его к ихнему королю позвали, руку целовать, – на два месяца он уехал, награды себе ждал. Она ему письмецо дала, мисе-Кислой. Адресок мы забыли, а он большой человек, все ходы ему известны, он и обещал дознаться. Такие нам чудеса были от него… с него слава-то наша и пошла.
В гостиничке комнатку мы сняли, лисий салоп продала я. Васенька и приходит, одни-то кости. Тиф у него был, а он с англичанами говорить мог, они его и приняли в больницу. Комнатку снял неподалечку, вместе гулять ходили. Вот он как-то и говорит: «Поеду в Париж, дядю разыщу и пришлю вам…» Без чего не пускают-то никуда? Вот-вот, визу пришлю. Она ему – «хорошо, пришлите… и приказ надо исполнить, письмо передать». Он стал говорить – адреса нет, а то бы по почте, а волю покойницы исполнить надо. Она ему – «да, надо приказания исполнять». Стал ее молить – «не мучайте меня, я много мучился, ближе вас у меня никого». Она его пожалела, он ей ручки целовать стал. Долго они шептались. Как она вско-чит!.. – «уходи, уходи!» – будто чего-то испугалась. Он ее прогулять хотел, а уж ночь глухая, она и не согласилась, – «уходи, уходи», так все. Пошел, она ему – «дай мне письмо!» Гляжу, – а я задремала-притаилась, – вынул он из бумажника письмо, с печатями. Вот она рассердилась!..
«А, всегда у сердца, драгоценность берегете?» Он да же за грудь схватился, – «что ты со мной, Катя, делаешь?!» – в голос крикнул. А она ему – «приди завтра, я тебе все скажу… можно оставить драгоценность?» Только он за дверь, она письмо на стол кинула и давай по клетке нашей ходить, пальцы крутить. Подойдет, поворочает письмо – бросит. Не стерпела я, и говорю: «а ты прочитай, и дело с концом». Она мне – «никогда я не распечатаю!» – «Так и будешь, – говорю, – себя дражнить? Лучше уж все узнать, Бог простит». – «Что – все?!» – она-то мне. И затрясла кулачками: «дура, ничего не понимаешь! он тогда в меня плюнет! гадина жизнь нашу отравила!..» – прокляла ее, покойницу. Всю ночь не спала. Подержит письмо – швырнет. Совсем схватила, вот разорвет… – за руки меня, исказилась:
«Спрячь, не давай мне… себя погублю!..» Чисто вот барыня-покойница. Стала я ее утишать, взяла письмо. И письмо какое-то нечистое, как свинец у меня в руках, злом полно. Сунула под тюфяк, она за руку меня – «дай, не могу я!..» Я ей два раза отдавала. Будто мы чумовые, с этим письмом крутились, до самого до его прихода. Ра-но пришел, лица на нем нет. Увидала его, как крикнет, – «а, боялся, все узнаю? Не спал?.. берите вашу святыню, целехонька!» Он так и ахнул. Бросился к ней, ножки целовать стал, меня не постеснялся. А она стоит, за голову схватилась. А я не пойму и не пойму, чего это они мудруют. Она и говорит-шепчет: «рад, что поверила тебе? или – что всего знать не буду?..» Он говорит – сейчас распечатай! Они и поцеловались. И порешили: Васенька в Париж поедет, визу нам выправить. Денег навязывал, она не взяла. Он мне и всучил, две бумажки аглиские, – сам безо всего поехал. Его в кочегары взяли на корабль, уголь швырять. Машинист за ихнего солдата его признал, по разговору. Сиротами и остались.
Неделя прошла – письмо от Васеньки: высадили его на остров. А вот, начальство стало глядеть бумаги, а он русский полковник, правов и нет на ихнюю землю ехать, его и высадили, – Корчики называется, остров-то. А место дикое, горы да леса. «Не тревожьтесь, говорит, я тут бревна с гор скатывать нанялся, два месяца прослужу – мне права выдадут, в Париж могу смело ехать». А нужда и нас стала донимать. Чем нам жить? Кто папиросками занялся, кто пирожки продает, военный один умных мышей показывал… и стала Катичка места искать, колечко продала. А из барака мы выбрались, – обокрала цыганка нас. А как же, из гостинички в барак мы опустились, а потом на чердачке сняли. Старик-турка за дворника был, на порожке все туфли шил. По-нашему сказать мог, старинный солдат был. К нам немка и приценилась. Бесихой такой рассыпалась, – генеральшей в Москве, говорит, была, а тут кофейную держит. Стала говорить – жалко мне вас, идите ко мне песни петь, у меня грек-богач делом орудует, он вас золотом засыпит. Затащила и затащила, поглядеть. Страшенный грек, грязный, морда – пузырь живой, а пальцев и не видать, в брилиянтах все. Заугощали нас, грек деньги Катичке за ворот совал, в хор все упрашивал. Пришли домой, а наш турка и говорит: «бабушек, береги барышню, плохой немка!» А знакомый офицер справки навел, – это, говорит, притон развратный. Армянин тоже звал, а у него чумный табак курили. Куда ни подайся – яма. А тут и Пасха наша. А какая нам Пасха – в турецком месте да еще на ветру. Страстная подошла, пошли в нашу церковь, в казенный дом. А Васенька все на горе сидит, бревна скатывает. Выходим со двора – автомобиль, а в нем барин, спрашивает у турка, турок на нас и показал. Он к нам: «вы не миса-Катя?» Назвали мы себя. Он и дает письмо, и покатил. Распечатали, а никакого письма, – аглицкие деньги, две бумажки. Ничего мы не поняли, откуда нам сто рублей. Пришли из церквы, а мальчишка и подает письмо, от мисы-Кислой, – дилехтор послал из банка. Тут и узнали, – от нее деньги. Она у графов живет, и у них все банки знакомы, она и написала дилехтору, господа сказали. Сам дилехтор нас разыскал, вот какие господа-то ее были. У них несметные милиены по всему свету… А погодите, что вышло-то… нам эти милиены сами в руки давались, только Господь отвел.