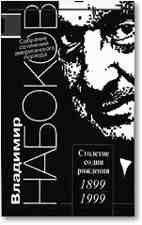— Значит, конец? Почему ты говоришь, что зимой мы не будем видеть друг друга? – спрашивает он во второй или в третий раз. Ответа нет. – Ты правда думаешь, что влюбилась в этого студента? – Очерк девушки остается пустым, за исключеньем руки и узкой смуглой кисти, играющей велосипедным насосом. Рукояткой насоса она неторопливо выводит на мягкой земле слово “yes”[18] – по-английски, чтобы сделать ответ помягче.
Звонок, занавес опускается. Да, это все. Так мало и так разымает душу. Никогда больше не сможет он спросить мальчика, ежедневно садящегося за соседнюю парту: “А как твоя сестра?” Даже у старой мисс Форбс, еще иногда заходящей к нам, нельзя ему будет узнать о девочке, которой она также давала уроки. Как же ступит он новым летом на эти тропинки и, наблюдая закат, как спустится на велосипеде к реке? (Впрочем, новое лето было по преимуществу посвящено поэту-футуристу Пану.)
По случайному совпадению обстоятельств именно брат Наташи Розановой и отвез меня на вокзал Шарлоттенбург, чтобы я поспел на парижский скорый. Я сказал ему, как интересно мне было поговорить с его сестрой, ныне – располневшей матерью двух мальчуганов, – о далеком лете в стране наших снов, в России. Он отвечал, что совершенно доволен своей работой в Берлине. Я попытался, как тщетно пытался уже, завести разговор о школьных годах Себастьяна.
— У меня жутко плохая память, – ответил он, – да и вообще я слишком занят, чтобы разводить сантименты по поводу такой ерунды.
— Но право же, право, – вы ведь можете припомнить какие-то яркие мелочи, мне все сгодится...
Он рассмеялся:
— Да ну, – сказал он, – разве вы не потратили только что несколько часов на разговоры с сестрой? Она обожает прошлое, верно? Говорит, вы собираетесь поместить ее в книгу, прямо такой, как в те дни, правду сказать, она этого ждет не дождется.
— Прошу вас, постарайтесь хоть что-нибудь вспомнить, – упрямо настаивал я.
— Да говорю же я вам, что ничего не помню, странный вы человек. Напрасно стараетесь. Нечего мне вам рассказать, кроме обычной ерунды – шпаргалки, зубрежка, какое было прозвище да у какого учителя... Наверное, славное было время... Но знаете, ваш брат... как бы это сказать?.. вашего брата в школе не очень-то жаловали...
Читатель, верно, уже заметил, что я старался привнести в эту книгу как можно меньше собственной моей персоны. Я старался не ссылаться на обстоятельства моей жизни (хотя иной намек там и сям мог бы иногда прояснить подоплеку моих изысканий). Поэтому я не стану останавливаться в этом месте моего повествования на некоторых деловых затруднениях, испытанных мною при появленье в Париже, где у меня был более или менее постоянный дом; они никак не связаны с моими поисками, и если я и поминаю их мимоходом, то лишь из желания подчеркнуть, что попытки найти последнюю любовь Себастьяна так поглотили меня, что я беспечально махнул рукой на любые неприятности, которые мог навлечь на меня столь длительный отпуск.
Я не жалел, что начал с берлинского следа. Во всяком случае, он позволил мне получить представление об иной главе Себастьянова прошлого. Теперь, когда одно из имен было вычеркнуто, у меня оставались еще три шанса. Парижский телефонный справочник осведомил меня, что “Граун (фон), Элен” и “Речной, Поль” (“де”, я заметил, отсутствует) отвечают адресам, которыми я владел. Перспектива встречи с мужем была неприятна, но неотвратима. Третью даму, Лидию Богемски, игнорировали оба указателя, то есть и телефонная книга, и тот, другой шедевр Боттэна, в котором адреса размещены в соответствии с улицами. Как бы там ни было, имевшийся у меня адрес мог мне помочь до нее добраться. Я хорошо знал мой Париж и потому сразу увидел наиболее экономный в рассуждении времени порядок, в котором мне надлежало расположить мои визиты, ежели я желал управиться с ними в один день. Прибавлю, на случай, если читателя удивит напористость моих действий, что телефонные переговоры мне неприятны в той же мере, в какой и писание писем.
Дверь, у которой я позвонил, открыл худой, высокий мужчина, взлохмаченный, без пиджака, в рубашке без ворота с медной запонкой на душке. В руке он держал шахматную фигуру, черного коня. Я поздоровался, по-русски.
— Заходите, заходите, – сказал он радостно, как будто ждал меня.
— Я такой-то, – сказал я.
— А я, – вскричал он, – Пал Палыч Речной, – и от души расхохотался, словно сказал удачную шутку. – Не угодно ли, – продолжал он, указывая конем на отворенную дверь.
Я очутился в скромной комнате со швейной машинкой в углу и с запашком льняного белья в воздухе. Мощного сложения мужчина бочком сидел у стола, на котором была расстелена клеенчатая шахматная доска со слишком крупными для клеток фигурами. Он смотрел на них искоса, и пустой папиросный мундштук в углу его рта смотрел в противную сторону. На полу стоял на коленях хорошенький мальчик лет четырех-пяти, окруженный крохотными автомобильчиками. Пал Палыч хватил по столу черным конем, и у коня отлетела головка. Черный аккуратно прикрутил ее на место.
— Присаживайтесь, – сказал Пал Палыч, – Это мой двоюродный брат, – прибавил он. Черный склонил голову. Я присел на третий (и последний) стул. Ребенок подобрался ко мне и молча показал новенький красно-синий карандаш.
— Я бы мог взять твою туру, если бы захотел, – мрачно сказал Черный, – но у меня есть ход получше.
Он приподнял ферзя и бережно втиснул его в пригоршню пожелтелых пешек, из коих одна изображалась наперстком.
Молниеносно двинув слона, Пал Палыч ферзя снял. После чего зашелся от смеха.
— Ну так, – спокойно сказал Черный, когда Белый отсмеялся, – вот ты и влип. Шах, голубчик.
Пока они спорили о позиции и Белый пытался взять ход обратно, я оглядывал комнату. Я отметил портрет того, что было некогда Царствующей Семьей. И усы знаменитого генерала, несколько лет назад заеденного московитами. Я отметил также вспученные пружины клоповьего цвета оттоманки, служившей, сколько я понял, трехспальной кроватью – мужу, жене и ребенку. На миг цель моего прихода представилась мне до безумия нелепой. Еще я почему-то вспомнил также тур потусторонних визитов Чичикова в гоголевских “Мертвых душах”. Мальчик рисовал для меня машинку.
— Я к вашим услугам, – сказал Пал Палыч (я понял, что он проиграл, Черный укладывал фигуры в старую картонку – все, кроме наперстка). Я сказал то, что предусмотрительно подготовил загодя: именно, что я хотел повидать его жену, поскольку она была в дружбе с некоторыми... ну, в общем, с моими немецкими друзьями. (Я опасался слишком рано упомянуть имя Себастьяна.)
— Тогда вам придется малость обождать, – сказал Пал Палыч. – У нее, понимаете, дела в городе. Я думаю, она с минуты на минуту вернется.
Я решился ждать, хоть и чувствовал, что сегодня мне навряд ли доведется поговорить с его женою с глазу на глаз. Я, впрочем, надеялся, что несколько искусных вопросов помогут мне сразу установить, знала ли она Себастьяна; а там уж, мало-помалу, я сумею ее разговорить.
— А мы тем временем тяпнем коньячку, – сказал Пал Палыч.
Мальчик, сочтя, что я проявил достаточный интерес к его картинкам, отошел к своему дяде, который тут же усадил его к себе на колено и принялся рисовать – с невероятной скоростью и изяществом – гоночный автомобиль.
— Да вы просто художник, – сказал я, чтобы что-то сказать.
Пал Палыч, полоскавший стаканы в махонькой кухонке, засмеялся и крикнул через плечо:
— Он у нас разносторонний гений. Играет на скрипке, стоя на голове, за три секунды перемножает телефонные номера и расписывается вверх ногами, не изменяя почерка.
— А еще он водит такси, – сказал ребенок, болтая тонкими, грязными ножками.
— Нет, я с вами пить не буду, – сказал дядя Черный, когда Пал Палыч поставил стаканы на стол. – Я, пожалуй, с мальчиком прогуляюсь. Где его одежда?
Отыскали пальтишко, Черный увел мальчика. Пал Палыч разлил коньяк и сказал:
— Вы уж меня простите за эти стаканы. В России я был богат, и в Бельгии, десять лет назад, опять разбогател, да вот потом разорился. Ну, ваше здоровье.
— Это ваша жена шьет? – спросил я, чтобы завязать разговор.
— А, да, затеяла портняжить, – сказал он со счастливым смехом. – Я-то наборщик, да вот только что потерял работу. Она наверняка с минуты на минуту вернется. Вот уж не знал, что у нее есть друзья среди немцев, – добавил он.
— По-моему, – сказал я, – они с ней познакомились в Германии или в Эльзасе, что ли? – Он сноровисто наполнял стаканы, но тут вдруг застыл и уставился на меня, разинув рот.
— Боюсь, тут какая-то ошибка, – воскликнул он. – Это, должно быть, первая моя жена. Варвара Митрофанна сроду кроме Парижа нигде не бывала, – ну, еще в России, конечно, – а сюда попала из Севастополя через Марсель.– Он осушил свой стакан и хохотнул.