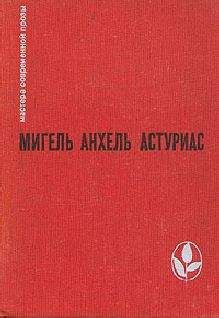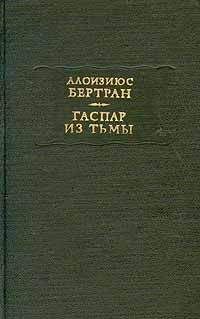бегу земли. Гойо Йик узнавал этих женщин по мелкому, частому, неровному шагу. Они шли, словно лепешки ступнями лепили, и переводили дыхание, присвистнув так, как будто устали молоть на камне зерно и принялись работать помедленнее.
На обратном пути они не бежали — они ступали степенно и останавливались потолковать, как под вечер и подобает. Гойо Йик слушал их, замерев, чтобы не спугнуть и не прервать. Речь их была ему дороже милостыни, тем паче теперь, когда и дома, чтобы услышать человеческий голос, он должен был говорить сам. А когда сам говоришь, совсем иначе выходит: голос, конечно, человеческий, но звучит, как у безумца.
— Куда торопишься, Тереса?
— Все продала?
— Да. А ты как?
— И я тоже.
— Почем продавала?
— За один реал десять штук.
— Я вчера не из маиса пекла — из вареного гискиля. И сеньора Ильдефонса продавала такие. А что ты ешь?
— Манго.
— Чего ж не угостишь?
— Как я тебя угощу, когда я одну штуку купила, да и та плохая? Да, слыхала, сеньор Гойо один остался как перст?
— Слыхала что-то. Жена у него ушла с детьми.
— А больше ничего?
— К морю они пошли, туда и отправились.
— С чего это?
— Надоел он ей. Вечно брюхатая ходила.
— Ревновал ее, надо полагать… Все они, слепые, ревнуют.
— Верно. Если видишь — это уж не ревность, а правда.
— Она не с мужчиной сбежала.
— Да, одна, с детьми. Ничего, другого найдет, сеньор Гойо ее не поймает, куда ему, слепому.
— Уж кто слепой, тот слепой. Хорошая была женщина. Работящая, тихая. Измаялась она. Поистине — Мария, беленькая такая. Мария Текун. Лицо белое, косы рыжие.
Слепец моргал, моргал, моргал, не двигаясь с места, втянув голову в плечи, обливаясь холодным потом. Чтобы его заметили, он причитал громче:
— Подайте, Христа ради, слепенькому! Подайте, кто милостив, ради божьей матери, и святых апостолов, и святых исповедников, и святых мучеников… — Но легкие шаги удалялись, шуршали накрахмаленные юбки, и он сжимал кулаки, он щипал себя, чтобы боль перешибла горе, и бормотал сквозь зубы: — Нарочно, свиньи такие, о ней говорят, когда меня видят… говорят, говорят, говорят, ничего у них не разберешь… суки… змеи… дуры набитые… гадины и распутницы…
XI
Дорога не вмещала людей, направлявшихся на ярмарку. Толпа росла, как растет река в половодье, и, как выходит река из берегов, народ, идущий в Писигуилито, растекался по зарослям, вплоть до каменных стенок, под которыми растут цветы и деревья. Народ шел всю ночь и весь день, и непрестанный шум шагов убаюкивал слепца. Убаюкивали его и собственные причитания. Шли люди с гор, пропахшие шерстью, тополем и камнями. Шли люди с морского берега, пропахшие солью и потом. Шли люди с востока, со склонов, пропахшие сухим сыром, табаком, кислой мукой из юкки и сварившимся в шарики крахмалом. Шли люди с севера, пропахшие мелким дождем, кипяченой водой и птичьей клеткой. Одни шли с неровных холмистых земель, которые выжигает торговец и вымывает зима, другие — с плоскогорий, третьи — с каменистой равнины, продолжающей бескрайнюю равнину моря, с жарких, плодовитых, знойных полей, где только сеять и сеять, столько льет на них ливней. Но когда начинали хвалу Крови Христовой, все забывали, кто откуда, все пели вместе — и жители холодных краев, и жители теплых, и жители жарких, и тюфяки, и силачи, и те, кто в сандалиях, и те, кто в ботинках, и те, у кого деньги в кармане, и те, у кого сума.
Из божьего бока
рубином скатилась
и в небе высоко
вином засветилась.
Гойо Йик покинул свое дерево, когда ярмарка еще не кончилась. В этот день он решил собрать побольше. К посоху он привязал платок с несколькими узелками: для мелких монет побольше, для крупных поменьше и совсем маленький для бумажек. Колени у него задубели, так долго он на них простоял; рука онемела и высохла, так долго он ее протягивал; язык не двигался, так много он клянчил, молил и бранил заодно бродячих псов; худое лицо сплошь покрылось пылью. Он не стал ждать, пока его умоют первые дожди. Он покинул дерево, свой амвон, свою кафедру, прежде, чем капли, круглые и тяжелые, как серебряные монеты, упали на дорогу.
Из божьего бока
рубином скатилась
и в небе высоко
вином засветилась.
Тупыми ложками старческих ногтей Гойо Йик не мог развязать двойной узел, которым было затянуто пятое вздутие платка. Он чуть не порвал ветхую ткань, от грязи уподобившуюся кухонной тряпке, выругался, дернул узел зубами и, словно он их выплюнул, последние монетки посыпались в шляпу, которую он держал между ног, сидя у большого камня спиной к дороге. Долго считал он и пересчитывал. Были там монетки поменьше, как ноготь мизинца, были средние, как ноготь указательного пальца, и большие, как ноготь большого. Наконец он сосчитал все и решил, что на визит к врачу ему хватит. Он поделил монеты на кучки, снова завязал платок узлами, встал и пошел к сеньору Чигуичону Кулебро. Путь он узнавал по приметам: вот камни, вот деревья с толстыми корнями, вот чьи-то участки, вот поворот, еще один, еще и, наконец, прочный старый мост.
Дом знахаря стоял у самого моста, но маленькое расстояние между ними слепой прошел хромая, потому что от моста к дому вел неровный склон, поросший кустами матасаны. Гойо Йик узнал их по запаху. Он нюхал, словно пес, чтобы убедиться, туда ли забрел, но он и вообще любил благоухание этих вкусных плодов. Убедившись, он прошел по мосту и очутился у дома.
— Ты видишь только цвет амате, а хочешь прозреть и увидеть все цветы. Врожденная слепота черна, как твоя неблагодарность, и горька, как неочищенный мед. Вечность ждет тебя под деревом, дающим тебе кров, опору и тень, а ты возмечтал прозреть и не видеть цветов, скрытых в плоде и ведомых лишь слепому…
— Не в том дело, — сказал Гойо Йик, нелепо мотнув головой, чтобы узнать, где именно стоит знахарь, который говорил хрипло, так хрипло, как еще никто не говорил, — не в том дело, неблагодарны почти что все, иначе своего не добьешься, сеньор Чигуичон. Очень, очень неблагодарны, иначе своего не достигнешь.
— Я всегда предлагал тебя вылечить, если твоя слепота излечима,