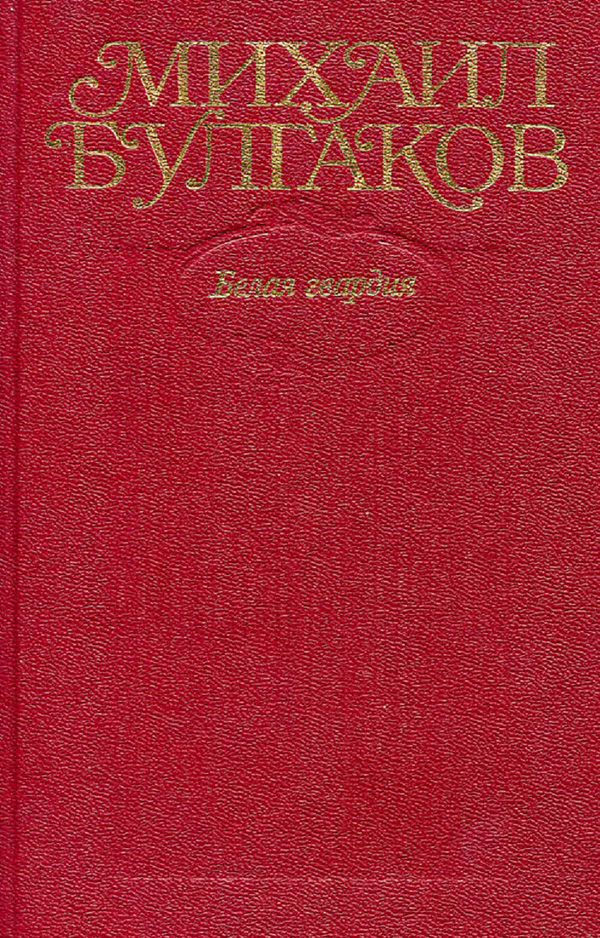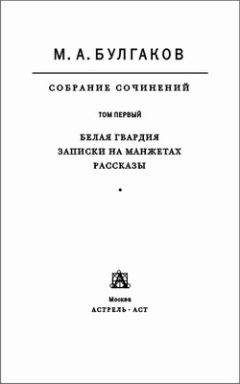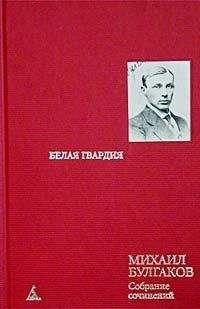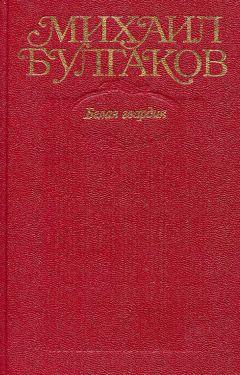Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.
Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:
— А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи и писатели...
Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада — бывшего фронта — и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им, большею частью безденежным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе с травлеными взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспосабливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, — отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них — кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары — выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масленых проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города — Липках, рестораны и номера отелей...
Другие — армейские штабс-капитаны конченых и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов — Карась, сбитых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.
Были юнкера. В Городе к началу революции оставалось четыре юнкерских училища — инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин...
— Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку семнадцатому, нежели двадцатому.
— Да кто он такой, Алексей Васильевич?
— Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем...
По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в Городе и уже испытавшим первые взрывы междоусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой — и слава богу. Гетман воцарился — и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, и чтобы, ради самого Господа, не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, невсамделишным царством, гетмана славословили искренне... и... «Дай бог, чтобы это продолжалось вечно».
Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.
Дело в том, что Город — Городом, в нем и полиция — варта, и министерство, и даже войско, и газеты различных наименований, а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, — этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже — смешно сказать — о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название — деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание:
— Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы — своих не хотели, попробуют чужих!
— Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.
— Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Немцы им покажут.
Немцы!!
Немцы!!
И повсюду:
Немцы!!!
Немцы!!
Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.
Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень