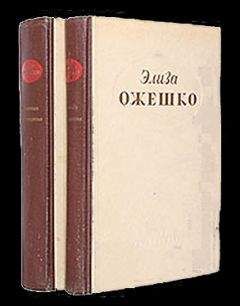Некоторое время она подавляла в себе тревогу и чувство гадливости успокоительной мыслью: когда это еще будет! Еще через три недели, через две, через десять дней… Но вот наступил день, когда она себе сказала: "через неделю!" и страшно испугалась, как будто впервые узнав, что ей предстояло. Иисусе, Мария, уже через неделю! Нет, нет, не может быть! До этого дня у нее часто бывали минуты, когда ее намерение выйти за Цыдзика казалось ей чем-то временным, ненастоящим, что в действительности никогда не осуществится. Часто, слыша разговоры о близком уже дне свадьбы или когда Цыдзика заранее называли ее мужем, она думала: "Ну, это еще неизвестно!" Но если бы кто-нибудь ее спросил, какие у нее были основания сомневаться, она бы не сумела ответить, потому что не было никаких оснований. Просто в ней действовал инстинкт самосохранения и глухо, робко еще, но неустанно боролся не только против влияния окружающих, но и собственных ее честолюбивых замыслов и желаний. Теперь уже трудно было утешаться пустыми словами: еще неизвестно! С неминуемо приближающихся событий сползала туманная завеса, а будущее, которое она нарочно старалась себе представить отдаленным, надвигалось на нее и уже стояло за спиной. Она явственно слышала, как с грохотом за ней захлопывалась дверь и с лязгом запирался замок. За этой дверью оставался Ежи, а замок запирал ее с глазу на глаз с Цыдзиком!. Мороз подирал ее по коже, и от ужаса подкашивались ноги: бежать, бежать отсюда, бежать куда глаза глядят!.. "Нет, не может это быть через неделю, — думала она. — Как-нибудь потом, пожалуй, но не так уж скоро! А что, если свадьбу отложить?.. Да, да, непременно надо отложить, но как это сделать? Все уже готово, все условлено, приглашены гости… Упереться на своем, сказать, что иначе она не хочет и не согласна; только чтобы свадьба была после Пасхи? В доме подымутся шум, ссоры, кутерьма, Константы, право, ее изобьет, люди начнут болтать, Цыдзики обидятся, ударятся в амбицию. Как тут быть?"
Думала она, думала, но ничего не выдумала и ни на что не могла решиться. Однажды, когда она, сидя у окна, шила себе рубашку, в горницу вошел Константы. Очутившись с ним с глазу на глаз, Салюся подняла голову и неожиданно для себя самой сказала:
— Костусь, а что если б мою свадьбу отложить до весны?
Слова эти вырвались сами, под влиянием действующего в ней инстинкта, и в первое мгновение она не узнала своего голоса, как будто кто-то другой вступился за нее. Константы, собиравшийся итти в овин, остановился посреди горницы.
— Это почему? По какой причине? — спросил он.
Не глядя на него, Салюся чуть слышно пролепетала:
— После Пасхи так хорошо будет, все зазеленеет…
— У тебя самой еще зелено в голове — вот что, и воробьев там скачет видимо-невидимо! — еще смеясь, ответил Константы и пошел было к дверям, но она вскочила, отшвырнула свое рукоделье и, бросившись к нему, схватила его за обе руки.
— Костусь, — торопливо говорила она, подняв на него глаза, — если ты в бога веруешь и если желаешь мне добра" пожалей ты меня, смилуйся, отложи свадьбу до весны… Я тебя за это век благодарить буду…
— С ума рехнулась! Как бог свят, рехнулась! — отталкивая ее, уже с гневом крикнул Константы. — Что ты мутишь? Бабьи выдумки! Все вздор, вздор!..
Но она опустилась на пол и обняла его колени.
— Костусь, ты мне как отец был… родители наши, умирая, меня тебе завещали… Окажи ты мне эту милость, отложи свадьбу до весны… Ну, какая тебе нужда?.. Я ведь — так ли, сяк ли — сделаю по твоей воле… но после Пасхи… ну, родной мой, золотой…
Теперь он рассердился уже не на шутку.
— Бабьи сказки! — гаркнул он, — вот полоумная! Я для нее в лепешку расшибаюсь, себя обездолил, всю душу вывернул, чтоб ее счастье устроить, а она вон какие штуки выкидывает! Была бы ты умна, так за такое счастье руками да ногами бы ухватилась, а не то чтобы — отложить! Вот и мечи перед псом калачи! Ты бы рада черную корку с этим хамом глодать! Дуреха! И не смей ты мне про это говорить! Заикнись еще раз хоть словечком, и на родителей усопших не посмотрю, а поколочу, как бог свят, поколочу, а то у меня — знаешь: еду, еду — не свищу, а наеду — не спущу! Ты это попомни!
Он оттолкнул ее и размашистым шагом вышел из горницы, хлопнув дверью на весь дом. Салюся поднялась с пола и почти с ненавистью посмотрела ему вслед.
Вскоре после этого она стояла в кухне перед английской плитой, на которой в двух горшках варились горох и щи к обеду и в огромном железном котле грелась вода. Панцевичова босиком, в большом фартуке и по-бабьи повязанном платке, как вихрь носилась по кухне и шумела, присматривая за обедом и собирая белье для стирки. Салюся, скрестив руки на груди, долго стояла возле плиты и, сдвинув брови, смотрела на огонь остановившимися глазами. Наконец звонко, необычно высоким голосом сказала, не глядя на сестру:
— А знаешь, Казя? Я через неделю не буду венчаться с Цыдзиком.
Словно разбушевавшийся вихрь вдруг умолк, так тихо сразу стало в кухне. Панцевичова с бадьей в руках остановилась, как вкопанная.
— Это почему же? — наконец вышла она из оцепенения.
— А потому, что я не хочу, — еще звонче ответила Салюся.
Панцевичова с грохотом поставила бадью на пол.
— Ну, — язвительно засмеялась она, — я-то думала, что ты набралась ума, а ты, как была, дура, так и осталась! Не хочу! Не хочу! Господи милостивый, чего тут не хотеть? Может, молодого парня из хорошего семейства, который влюбился в тебя, как мартовский кот? Или такого богатства, что мало какой шляхтянке доставалось? Или, может, двойного приданого, которое братец, других своих сестер обидев, тебе подарил?!
— Я его об этом не просила, и ты меня приданым не попрекай, а то как швырну вам его в глаза и — будьте здоровы! Дескать, кланяюсь бабушке!..
По ее напряженному, необычно высокому голосу, выпрямившейся фигуре и мечущим молнии глазам было видно, что ее охватило непреодолимое желание затеять ссору. Панцевичову тоже нетрудно было заразить Подобным желанием; однако на этот раз удивление ее пересилило гнев.
— Салюся, — начала она, — да что с тобой нынче делается? Белены ты, что ли, объелась? Я тут для нее стараюсь, из сил выбилась, родных детей и хозяйство забросила, а она ко мне с глупостями заявляется! А ты свое шикарное-то платьице скинь, рукава засучи да принимайся-ка лучше за стирку! Надо твое белье постирать, не пойдешь же ты с грязным в мужнин дом, да и Константы для своего не станет нанимать прачку, когда мы тут обе сидим. Слышишь, Салюся? Помоги мне котел снять с машинки!
Сжав губы, быстрыми, нетерпеливыми движениями Салюся расстегнула и сбросила свое городское платье с турнюром. Оставшись в домотканной юбке, она засучила по локоть рукава, без большого труда сняла вместе с сестрой с машинки котел и вылила горячую воду в бадью. Густой пар, поднявшийся из бадьи, наполнил кухню почти непроницаемым туманом, окутал обеих женщин и осел на их лицах крупными каплями. Проступавшие сквозь сизый туман резкие черты Панцевичовой, с жгучими глазами и черными, как смоль, волосами, выбившимися из-под красного платка, выражали энергию и упорство. Нет, не от нее, от нее-то наверное не могла ждать Салюся утешения и доброго совета. Опорожнив наполовину котел, Салюся снова поставила его на плиту и, подойдя к бадье, утерла мокрое от пара лицо.
— А все-таки, — произнесла она очень громко и звонко, — я через неделю не буду венчаться с Цыдзиком.
После этого Салюся уже не сказала сестре ни слова. Стиснув зубы, она склонилась над бадьей и, ни на минуту не отрываясь, стирала, намыливала, терла и выжимала с таким ожесточением и шумом, как будто надеялась заглушить тоску, окунувшись с головой в работу.
Два дня она стирала, не разгибая спины, и два дня ни с кем не обмолвилась ни словом. Она была мрачна и молчалива, как могила; казалось, одни только глаза ее жили, думали, тосковали и отчаивались. Панцевичова, вовсе не охотница помолчать, со зла назвала ее букой и истуканом. Константы, пренебрежительно махнув рукой, смеялся:
— Девичьи прихоти! Все они куражатся перед свадьбой. Бабьи выдумки; дурак бы я был, если б стал ее слушать! Фью, фью! Фью, фью, фью!!
Панцевич, глубокомысленно поднимая белесые брови, важно разглагольствовал:
— На то господь бог и создал девичью скромность, чтобы девицы, еще не утратив венка своего, по нем убивались и скорбели!
Гостей в эти дни совсем не бывало в доме, а когда, по заведенному обычаю, являлись кавалеры, Салюся с мокрым бельем в голых руках выпроваживала их без всяких церемоний.
— И не ходите теперь! Недосуг мне с вами теперь баклуши бить, да и неохота!
Несколько раз на дню она выбегала во двор и, машинально вытирая руки фартуком, смотрела на дорогу. Что это Коньцова не едет? Салюся ждала ее, как жаждущий — каплю воды, как, ждут в отчаянии проблеска надежды. Потеряв терпение, она заходила к Габрысю пожаловаться: