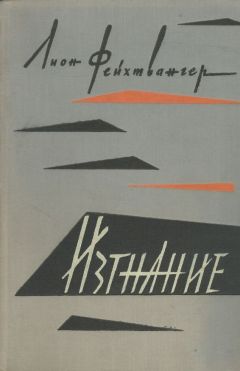Среди изгнанников-немцев было много таких, которым пришлось бежать вследствие их политического образа мыслей, и было множество людей, вынужденных эмигрировать только потому, что сами они или их родители по метрическим записям числились евреями. Было много евреев и неевреев, которые ушли добровольно, не будучи в силах дышать воздухом третьей империи, и много таких, которые охотнее всего остались бы в Германии, если бы только им позволили каким-нибудь образом добывать средства к жизни. Но именно в этом и заключался важный пункт национал-социалистской программы по сути дела, единственный, который легко было осуществить: лишить возможности существования политических противников, личных врагов или конкурентов новых хозяев и тех, которые значились в метрических книгах евреями: пусть околевают, как рыба в высохшем пруду. Многие из германских эмигрантов побывали в тюрьмах, подверглись избиениям, унижениям, издевательствам, у многих были друзья и родственники, погибшие в Германии, многие вели борьбу за пределами третьей империи с целью свержения ненавистного режима. Но были и такие, которые разделяли образ мыслей новых хозяев, которые никогда не чувствовали и вряд ли даже знали, что они евреи. И когда вдруг оказалось, что они внесены в какие-то книги в качестве евреев и, следовательно, несут на себе клеймо «низшей расы», им, согнанным с земли их многовековой родины, пришлось скрепя сердце покинуть ее. Таким образом, в эмиграции были всякого рода люди: такие, которых из Германии погнали их убеждения, и такие, которые бежали только из-за метрики или другой случайности; были добровольные эмигранты и эмигранты поневоле.
Среди ста пятидесяти тысяч изгнанников были, кроме того, люди не только разных политических взглядов, но и разных социальных положений и разных характеров. А между тем на всех, хотели они этого или не хотели, навесили один и тот же ярлык, все варились в одном и том же котле. В первую очередь это были эмигранты и лишь во вторую — люди, со всем, что людям свойственно. Многие возмущались таким внешним делением, но это им не помогало. Эмигрантская группа существовала, они к ней принадлежали, и эта связь оказывалась нерасторжимой.
Для большинства добровольное или вынужденное бегство из Германии сопровождалось утратой положения и состояния. Пришлось отказаться от должности, оставить в Германии свои деньги, ибо брать их с собой не разрешалось. Как же иначе могла бы правящая клика выполнить обещания, данные своим сторонникам еще до того, как она добралась до кормила власти? Таким образом, германские эмигранты жили большей частью в нужде. Были врачи и адвокаты, которые теперь продавали вразнос галстуки, выполняли конторскую работу или же тайком, нелегально, под вечной угрозой полицейских преследований пытались применить свой опыт и знания. Были женщины с высшим образованием, которые зарабатывали себе кусок хлеба, работая продавщицами, служанками или массажистками.
Куда бы ни приходили эти хмурые гости, они были нежеланными. Земля и работа были поделены между нациями, между политическими и социальными кликами. В силу беспланового производства и бессмысленного распределения большая часть населяющих планету людей голодала, хотя склады были переполнены продовольствием; несмотря на товарный голод и изобилие рабочих рук, много машин стояло без употребления. Не было больше стран, где нуждались бы в пришлых способных людях. Напротив, везде косились на чужеземцев, которые хотели работы и хлеба.
Им не разрешали работать, едва разрешали дышать. От них требовали «бумаг», удостоверений. Этих бумаг у них не было, или их оказывалось недостаточно. Многие бежали, не имея возможности взять с собой документы, у большинства срок паспортов истекал, а власти третьей империи отказывались возобновить их. Таким образом, изгнанникам трудно было добиться подтверждения, что они были тем, чем они были. Во многих странах это служило желанным предлогом избавиться от них. Случалось, что людей, не имевших бумаг, жандармы ночью тайно перебрасывали через границу в соседнюю страну, а следующей ночью жандармы соседней страны так же тайно перебрасывали их обратно.
Лишь немногим пошли на пользу страдания, которые им пришлось претерпеть. Ибо страдания только сильного делают сильнее, слабого же они делают еще слабее. Старый немецкий язык знал для обозначения гонимых, изгнанников два слова: Recke — теперь-то оно значит «богатырь», а раньше значило не что иное, как именно «изгнанный», «опальный», и слово Elender «несчастный», «горемыка» — оно опять-таки значило «человек без земли», «согнанный с земли».
Так мудрость немецкого языка обозначает оба полюса понятия «эмигрант». Среди германских эмигрантов большинство составляли «горемыки», а «богатырей» было немного; ибо убеждения, верность принципам — достояние, от которого отказываются скорее, чем от хлеба насущного и от масла к нему, и если приходится выбрасывать за борт балласт, то прежде всего освобождаются от морали. Многие из эмигрантов опустились. Их дурные качества, скрытые и обузданные в условиях благополучия, выступили на поверхность, их хорошие качества обратились в свою противоположность. Осторожный стал трусом, смелый — преступником, бережливый — скрягой, люди широкой натуры стали авантюристами. Многие носились с собой как одержимые, потеряли всякое чувство меры, перестали различать, что дозволено и что не дозволено; нужда стала для них оправданием всякой разнузданности и произвола. Они сделались плаксивыми и раздражительными. Выброшенные из надежных условий существования в ненадежные, они ожесточились, стали в одно и то же время наглы и угодливы, неуступчивы, требовательны, хвастливы. Они походили на плоды, преждевременно сорванные с дерева, незрелые, сухие, терпкие.
Чем больше увядали их надежды на скорое возвращение домой или по крайней мере на обеспеченную жизнь, тем ниже они падали. Иной считал для себя позором, что он эмигрант, он робко пытался это скрыть, и, разумеется, безуспешно. А иной, именно потому что у него ничего не осталось, кроме звания эмигранта, спесиво выставлял его напоказ, находя в нем оправдание для своих неумеренных претензий. Разве не были эмигрантами Ганнибал, Данте, Виктор Гюго, Рихард Вагнер? Выставляя этот довод, они забывали, что к эмигрантам принадлежал и плюгавый белогвардеец Максимов, сутенер и вышибала из кабачка «Колчак» на Монмартре, и господин Розенбаум, который старался всучить покупателю вискозный галстук вместо шелкового, и господин Лембке, носившийся с мыслью предложить себя германской полиции в качестве шпиона.
Их не любили, немецких эмигрантов, эти чужаки вынуждены были общаться главным образом друг с другом. И оттого их горе и отчаяние часто выливались во вздорную мелочную грызню, каждый бессознательно видел в другом собственные недостатки, собственную мелкотравчатость и неполноценность. Все хотели одного и того же: паспортов, разрешения на работу, денег, новой родины, а лучше всего — возвращения на старую, освобожденную. Но основания для этих желаний были различны, различны были цели и пути, и то, что одному казалось прекрасным, было ужасом для другого. Постоянная близость калечила отношения людей даже в тех случаях, когда у них были общие цели и общий путь, и они разочаровывались друг в друге. Вспыхивала ненависть, иногда смертельная вражда, и часто один с большим или меньшим основанием подозревал другого в равнодушии или измене общему делу.
Да, изгнание кромсало, принижало, сокрушало многих; но изгнание и закаляло, делало многих богатырями, героями. Жизнь оседлого человека требует иных добродетелей, воспитывает иные качества, чем существование номада, кочевника. Но в век машин, в вен, когда машина сгоняет с земли большинство крестьян, добродетели кочевников по меньшей мере так же важны для общества, как добродетели оседлых, они особенно нужны тому, кто вынужден ежедневно наново завоевывать право на жизнь. Эмигранты имели меньше прав, чем другие, но много ограничений, обязанностей и предрассудков для них отпало. Они стали более поворотливыми, быстрыми, гибкими, твердыми. «Камень, который катится, не обрастает мохом», говорит старый Себастьян Франк. Такое состояние явно казалось этому немецкому писателю преимуществом.
Многие в изгнании измельчали, но лучшим оно дало широту, гибкость, понимание существенного, великого, оно научило их не цепляться за несущественное. Если человека бросало из Нью-Йорка в Стокгольм или Капштадт, ему волей-неволей приходилось, дабы не погибнуть, задуматься над многими вещами и глубже заглянуть в них, чем тем, кто просидел всю жизнь в своей берлинской конторе. Многие из эмигрантов внутренне созрели, обновились, помолодели; завет «смерть для жизни новой», превращающей человека из хмурого гостя нашей земли в радостного, они познали на опыте и глубоко освоили.