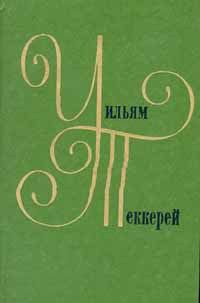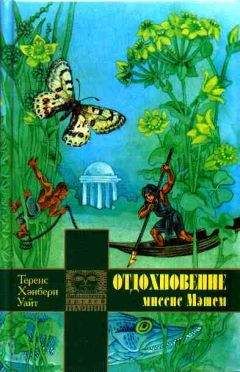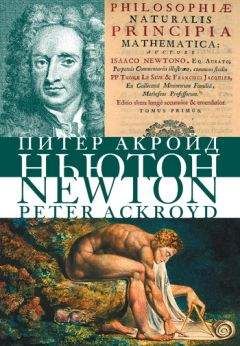С этими словами рослый офицер откинул свой плащ одной рукой и сунул под самый нос Хэйсу другую, которою он держал за пояс маленького мальчика, гримасничавшего и болтавшего в воздухе ногами и руками.
— Не правда ли, красавчик? — воскликнула миссис Хэйс, вся подавшись к мистеру Хэйсу и нежно сжав его руку.
* * *
Не так уж важно, согласился ли честный плотник с мнением своей супруги касательно наружности мальчика; но важно, что с этого вечера и на много, много вечеров и дней этот мальчик водворился в его доме.
ГЛАВА VIII
Содержит перечень совершенств Томаса Биллингса; представляет читателю
Брока под именем доктора Вуда; сообщает о казни прапорщика Шакшейна
Мы вынуждены вести настоящее повествование, точно следуя "Календариум Ньюгетикум Плуторумкве Регистрариум" — авторитетнейшему источнику, ценность которого для современного любителя литературы неоспорима; а поскольку в сем примечательном труде не соблюдены драматические единства и жизнь героев измеряется не хронологическими периодами, а лишь поступками, которые герои совершают, нам остается одно — плыть утлым суденышком в кильватере этого мощного ковчега. Останавливается он — останавливаемся и мы; идет он со скоростью десяти узлов — наше дело не отставать от него; потому-то, чтобы перейти от шестой главы к седьмой, нам пришлось заставить читателя перепрыгнуть через семь опущенных нами лет, и точно так же сейчас мы должны просить у него позволения опустить еще десять лет, прежде чем продолжим наш рассказ.
Все эти десять лет мистер Томас Биллингс был предметом неусыпных попечений своей матери; благодаря чему, как нетрудно себе представить, все те качества, коими он отличался еще в доме приемных родителей, не только не ослабели, но, напротив, расцвели пышным цветом. И если в раннем детстве его добродетели могли быть оценены по достоинству лишь узким кругом домашних да теми немногими знакомцами, каких четырехлетний мальчуган может приобрести у придорожной канавы или на улице захолустного селения, — под материнским кровом круг этот расширялся и рос вместе с ним, и то, что в более нежном возрасте представляло собой лишь многообещающие задатки, с годами превратилось в отчетливо выраженные черты характера. Так, если мальчик по пятому годку не знает азбуки и не обнаруживает ни малейшей охоты ее выучить, в этом ничего удивительного нет; но когда пятнадцатилетний парень не более грамотен и не менее упорен в своем отвращении к ученью, это свидетельствует о недюжинной твердости воли. А то обстоятельство, что он не стеснялся дразнить и мучить самых маленьких школьников, а при первом поводе к несогласию лез в драку с помощником учителя, доказывало, что он не только храбр и решителен, но также сообразителен и осторожен. Подобно герцогу Веллингтону, о котором во время Пиренейской кампании говорили, что он умеет подумать и позаботиться о каждом из своих подчиненных — от лорда Хилла до последнего войскового барабанщика, — Том Биллингс тоже никого не обходил своим вниманием, выражавшимся в побоях: со старшими пускал в дело кулаки, младших награждал пинками, но так или иначе трудился без передышки. В тринадцать лет, перед тем как его взяли из школы домой, он был первым на школьном дворе и последним в классе. Он молчал, когда младшие и новички со смехом обгоняли его при входе в школьное здание; но зато потом немилосердно избивал их, приговаривая: "Теперь мой черед смеяться". При таком драчливом нраве Тому Биллингсу следовало пойти в солдаты, и тогда, быть может, он умер бы маршалом; но по прихоти судьбы он пошел в портные, а умер… впрочем, не будем пока говорить, кем он умер; скажем лишь, что в расцвете сил его неожиданно скосил недуг, производивший в ту пору немалые опустошения среди юношества Англии.
Нам известно из упомянутого уже источника, что Хэйс не остался на всю жизнь только плотником и не похоронил себя в сельской глуши; уступая, должно быть, настояниям неугомонной миссис Кэтрин, он решил попытать счастья в столице, где, преуспев в означенных попытках, во благовременье и окончил свои дни. Лондонское местожительство его не раз менялось: то это была Тоттенхем-Корт-роуд, то Сент-Джайлс, то Оксфорд-роуд. В одном месте он держал зеленную лавку и торговал углем вразнос, в другом плотничал, мастерил гробы и ссужал под заклад деньги тем, кто в них нуждался; последнего человеколюбивого промысла он не оставил и тогда, когда купил дом на Оксфорд-роуд — то есть Оксфордовской, иначе Тайбернской, дороге и стал пускать жильцов за плату.
Как закладчик, привыкший вести дело на широкую ногу, он, разумеется, никогда не вникал в родословную тех предметов утвари, штук сукна, шпаг, часов, париков, серебряных пряжек и тому подобного, что друзья отдавали ему на сохранение; но, как видно, сумел заслужить у друзей доверие и был весьма популярен среди людей того типа, который отнюдь не отошел в прошлое, а живет и вызывает восхищение даже в наши дни. Приятно думать, что, быть может, сам храбрый Дик Тершит любезничал с миссис Кэтрин в комнате за ссудной лавкой, а благородный Джек Шеппард отпускал там порой свои шуточки или единым духом выпивал пинту рома. И кто знает, не случалось ли Макхиту и Полю Клиффорду сходиться за обеденным столом мистера Хэйса? Но к чему тратить время на раздумья о том, что лишь могло быть? К чему отвлекаться от действительности ради игры воображения и тревожить священный прах мертвецов в их почетных могилах? Не знаю, право; и все же, когда мне случается быть вблизи Камберленд-гейт, я не могу не вздохнуть при мысли о доблестных мужах, некогда проходивших по этой дороге. Служители божьи участвовали в их триумфальном шествии; отряды копьеносцев в полном блеске шли по сторонам. И подобно тому, как некогда раб, шагавший перед колесницей римлян-завоевателей, возглашал: "Memento mori!" [25] так перед британским воином ехал гробовщик со своим изделием, напоминая, что и он смертен! Запомни это место, читатель! Лет сто назад Альбион-стрит (там, где веселья дух царил, Милета порожденье) — Альбион-стрит представлял собой пустыню; Эджуэр-роуд, или Эджуэрская дорога, и впрямь была проезжей дорогой, и дребезжащие повозки тянулись по ней между двумя рядами благоухающих кустов боярышника. На Нэтфорд-Плейс посвистывал, идя за плугом, пахарь; в зеленой глуши Соверен-стрит паслись мычащие стада. А здесь, среди зеленых просторов, овеянных чистым воздухом полей, — здесь, во времена, когда еще и омнибусов не знали, был Тайберн; ы на дороге, ведущей к Тайберну, так сказать, с приятным видом на будущее, стоял в 1725 году дом мистера Джона Хэйса.
В одно прекрасное утро 1725 года, часу в одиннадцатом, в столовой этого дома сошлись миссис Хэйс в нарядной шляпке и плаще с капюшоном, мистер Хэйс, сопровождавший ее на прогулку, что случалось не часто, и миссис Спрингэтт, жилица, за известную плату пользовавшаяся привилегией разделять с миссис Хэйс ее трапезы и досуги; все они только что вернулись из Бэйсуотера, куда ходили пешком, разрумянились и весело улыбались. А по Оксфордской дороге все еще шли тысячные толпы принарядившихся, оживленных людей, которые были куда больше похожи на прихожан, расходящихся после воскресной проповеди, чем на недавних зрителей той церемонии, что происходила в это утро в Тайберне.
Дело в том, что они ходили смотреть, как вешают осужденных, — дешевое развлечение, в котором никогда не отказывало себе семейство Хэйс, — и теперь спешили позавтракать, нагуляв хороший аппетит, чему еще способствовало испытанное возбуждение. Помню, в бытность мою служителем в Кембридже я не раз замечал, как жадно набрасываются на еду молодые студенты после такой же утренней прогулки.
Итак, миссис Кэтрин, нарядная, пухленькая, розовая, хорошенькая, — ей в ту пору было года тридцать три или тридцать четыре, а это, согласитесь, друзья, лучший возраст для женщины, — воротясь с прогулки, впорхнула весело в комнату за лавкой, окна которой выходили на уютный двор или, точнее, садик, залитый утренним солнцем; посреди комнаты стоял стол, накрытый белой скатертью, на которой красиво выделялись серебряные кубки и серебряные же ножи, все с разными вензелями и узорами, а за столом сидел внушительного вида старый джентльмен и читал внушительного вида старую книгу.
— Вот и мы, доктор, — сказала миссис Хэйс, — а вот и его последнее слово. — И она протянула одну из тех грошовых брошюрок, что и поныне продаются у подножья эшафота после каждой публичной казни. — Должна сказать, что он не первый, кого вздернули на моих глазах; но никогда еще я не видывала, чтобы человек так мужественно принял это.
— Голубушка, — сказал тот, кого назвали доктором, — он всегда был холоден и непоколебим, как сталь, и виселица его страшила не более, чем необходимость выдернуть зуб.
— Вино — вот что его сгубило, — заметила миссис Кэт.