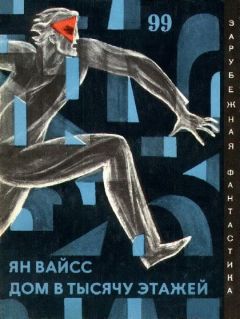— Вот что могут сделать с женщиной одни роды, — рассказывал он в городе. — Зато она обожает своего сына. Я всегда замечал, что женщины тем больше любят детей, чем дороже они им достаются.
Молодыми на поблекшем лице Вероники оставались только глаза: темно-голубые, как ирисы, они горели исступленным огнем. Казалось, в них сосредоточилась жизнь, покинувшая эту холодную, неподвижную маску, которая оживлялась небесным выражением, лишь когда речь заходила о любви к ближнему. Поэтому испуг и удивление, поразившие кюре, исчезали по мере того, как он рассказывал г-же Граслен, сколько добра может сделать владелец Монтеньяка, поселившись в своем имении. Вероника на миг снова стала прекрасной, озаренная светом неожиданно открывшегося ей будущего.
— Я поеду туда, — сказала она. — Я буду творить добро. Я добьюсь нужных средств у господина Граслена и стану горячо помогать вам в вашей угодной богу деятельности. Монтеньяк расцветет, мы найдем воду, чтобы оросить вашу бесплодную равнину. Подобно Моисею, вы ударите жезлом по скале, и из нее брызнут слезы!
Когда лиможские друзья спросили у монтеньякского кюре о г-же Граслен, он сказал, что она святая.
На следующее же утро после покупки г-н Граслен отправил в Монтеньяк архитектора. Банкир хотел восстановить замок, сады, террасу, парк и возродить лес новыми посадками; он горячо принялся за дело.
Через два года г-жу Граслен постигло большое горе. В августе 1830 года[20], несмотря на всю свою осторожность, Граслен не избежал бедствий, поразивших коммерцию и банки. Он не перенес мысли о банкротстве и потере трехмиллионного состояния, которое стоило ему сорока лет работы. Нравственные страдания усугубили постоянный воспалительный процесс в крови: он слег в постель. После рождения ребенка дружба Вероники с Грасленом укрепилась еще больше и рассеяла все надежды ее поклонника г-на де Гранвиля. Вероника пыталась спасти мужа своими нежными заботами, но ей удалось лишь продлить на несколько месяцев его муки. Все же это продление оказалось весьма полезным, ибо Гростет, предвидевший кончину своего бывшего приказчика, успел получить от него все сведения, необходимые для предстоящей ликвидации имущества.
Граслен умер в апреле 1831 года. Горе вдовы уступило лишь ее христианской покорности. Первой мыслью Вероники было отдать свое собственное состояние для расплаты с кредиторами. Но на это с избытком хватило состояния г-на Граслена. Через два месяца ликвидация дел, которую взял на себя Гростет, была закончена. У г-жи Граслен остались земли Монтеньяка и шестьсот шестьдесят тысяч франков — все принадлежавшее ей ранее состояние. Имя ее сына было не запятнано: Граслен не разорил никого, даже свою жену. Франсис Граслен даже получил в наследство около сотни тысяч франков.
Господин де Гранвиль, которому известны были благородство и высокие достоинства Вероники, сделал ей предложение. Но, к удивлению всего Лиможа, г-жа Граслен отказала вновь назначенному главному прокурору под тем предлогом, что церковь осуждает вторичное замужество. Гростет, человек, наделенный редким здравым смыслом и верным глазом, посоветовал Веронике поместить свое состояние и остатки состояния г-на Граслена в государственные долговые обязательства и сам незамедлительно осуществил эту операцию в июле месяце, когда помещение капитала представляло особые выгоды, а именно — три процента на пятьдесят франков. Франсис получил, следовательно, шесть тысяч ливров ренты, а его мать — около сорока тысяч. Вероника по-прежнему являлась обладательницей одного из самых крупных состояний в департаменте. Когда все было улажено, г-жа Граслен объявила о своем намерении покинуть Лимож и поселиться в Монтеньяке, подле г-на Бонне. Она снова вызвала к себе кюре, чтобы расспросить его о начатых в Монтеньяке работах, в которых хотела принять участие. Но г-н Бонне великодушно стал отговаривать Веронику от принятого решения, доказывая, что ее место в обществе.
— Я родилась в народе и хочу вернуться к народу, — ответила она.
Тогда кюре, исполненный любви к своей деревне, не стал противиться призванию г-жи Граслен, тем более, что она сама поставила себя в необходимость покинуть Лимож, уступив особняк Граслена Гростету, который в уплату долга взял дом по его полной стоимости.
В день отъезда, в конце августа 1831 года, многочисленные друзья г-жи Граслен пожелали проводить ее до выезда за пределы города. Некоторые доехали до первой почтовой станции. Вероника отправилась в одной коляске с матерью. На переднем сиденье поместились Гростет и аббат Дютейль, несколько дней назад получивший епархию. Когда они поравнялись с площадью Эн, страшное волнение охватило Веронику; лицо ее исказилось, и она с силой прижала к себе ребенка, но матушка Совиа тут же взяла его на руки, заслонив собой Веронику, — казалось, она ждала волнения дочери. Случайно коляска г-жи Граслен проехала мимо того места, где когда-то стоял дом ее отца. Вероника сжала руку матери, крупные слезы выступили у нее на глазах и побежали вдоль щек. Выехав из Лиможа, г-жа Граслен бросила на него последний взгляд, и друзья заметили, что лицо ее прояснилось. Когда главный прокурор, двадцатипятилетний молодой человек, которого она отказалась взять в мужья, с живейшим сожалением поцеловал ей руку, вновь посвященный епископ заметил странную перемену в лице Вероники: зрачки ее резко расширились, вокруг них осталось лишь узкое голубое колечко. Потемневшие глаза говорили о жестокой внутренней борьбе.
— Больше я его не увижу! — шепнула она матери, которая выслушала ее с бесстрастным лицом.
На старуху Совиа смотрел в это время стоявший перед ней Гростет, но бывший банкир и без ее хитростей не догадался бы о ненависти Вероники к прокурору, который, однако, был принят в ее доме. В подобных случаях духовные лица бывают проницательнее других людей; вот почему епископ и удивил Веронику, бросив на нее испытующий взор, присущий только пастырям.
— Вам ничего не жаль оставлять в Лиможе?
— Ведь вы покидаете его, — ответила она. — Да и господин Гростет будет наезжать туда редко, — добавила она, улыбаясь прощавшемуся с ней Гростету.
Епископ проводил Веронику до самого Монтеньяка.
— По этой дороге я должна бы идти в трауре, — тихо сказала Вероника матери, поднимаясь пешком по склону Сен-Леонара.
Старуха, не меняя выражения жесткого, сморщенного лица, поднесла палец к губам, показав на епископа, который с ужасающим вниманием разглядывал ребенка. Этот жест, а особенно проницательный взгляд прелата привел г-жу Граслен в содрогание. При виде обширной серой равнины, раскинувшейся перед Монтеньяком, глаза Вероники погасли, ей стало грустно. Она заметила спешившего навстречу кюре. Г-н Бонне предложил ей сесть в коляску.
— Вот ваши владения, сударыня, — сказал он, указывая на выжженную равнину.
Глава IV
ГОСПОЖА ГРАСЛЕН В МОНТЕНЬЯКЕ
Через несколько минут у подножия холма показалось, радуя глаз своими новыми постройками, селение Монтеньяк, позлащенное лучами заходящего солнца, овеянное поэзией, которую по контрасту с равниной порождал этот прелестный уголок, затерявшийся здесь, словно оазис в пустыне.
Глаза г-жи Граслен наполнились слезами. Кюре показал ей на идущую вверх широкую белую полосу, выделявшуюся на горе, словно рубец.
— Вот что сделали мои прихожане в знак признательности к своей повелительнице, — сказал он, указывая на недавно проложенную дорогу. — Теперь можно доехать в экипаже до самого замка. Эта дорога не потребовала от вас ни гроша, а за два месяца мы обсадим ее деревьями. Монсеньер может оценить, скольких самоотверженных трудов и забот стоило подобное предприятие.
— Они сами сделали это? — спросил епископ.
— Да, и отказались от оплаты, монсеньер. Все бедняки приложили тут свои руки, зная, что к нам едет их защитница и мать.
У подножия горы собрались все жители деревни. Раздались ружейные залпы, потом две самые красивые девушки, одетые в белые платья, поднесли г-же Граслен цветы и фрукты.
— Найти такой прием в этой деревне! — воскликнула она и сжала руку г-на Бонне, словно боялась упасть в пропасть.
Толпа проводила экипаж до въездных ворот. Отсюда г-жа Граслен могла рассмотреть свой замок, который издали рисовался лишь в общих очертаниях. Увидев его вблизи, она была почти испугана великолепием своего жилища. Камень в этом краю — редкость; гранит, который можно найти в горах, с трудом поддается обтесыванию; поэтому архитектор, которому г-н Граслен поручил отстроить замок, желая удешевить постройку, избрал в качестве главного материала кирпич, благо в лесах Монтеньяка в изобилии имелись глина и дрова, необходимые для его изготовления. Балки, стропила и камень для кладки также поставлялись из лесу. Без такой строгой экономии Граслен разорился бы. Главные издержки падали на перевозку и обработку материалов и на оплату работников. Таким образом, все деньги остались в деревне и вдохнули в нее жизнь. Издали замок представлялся красной громадой, расчерченной в клетку черными линиями пазов и обрамленной серыми полосами; последнее впечатление объяснялось тем, что оконные и дверные наличники, карнизы, углы и кордоны на каждом этаже были облицованы граненым гранитом. Двор в виде наклонного овала, как в Версальском дворце, был окружен кирпичной оградой, на которой выделялись прямоугольники, окаймленные гранитными рустами. Внизу вдоль ограды шла плотная полоса замечательно подобранного кустарника, поражающего разнообразием зеленых оттенков. Двое великолепных решетчатых ворот, расположенных по обе стороны двора, вели одни на террасу, обращенную в сторону Монтеньяка, другие — к службам и к ферме. По бокам решетчатых въездных ворот, у которых кончалась недавно проложенная дорога, возвышались два прелестных павильона в стиле шестнадцатого века. Фасад, выходивший во двор и образованный тремя павильонами — причем центральный отделялся от двух боковых жилыми помещениями, — был обращен на восток. Точно такой же фасад, смотревший в сады, был обращен на запад. В каждом павильоне на фасаде было по одному окну, а в жилых помещениях — по три. Центральный павильон, выстроенный в виде колоколенки с углами, отделанными резной работой, был примечателен изяществом скульптурных украшений, правда, немногочисленных. В провинции искусство отличается скромностью, и хотя, по заверениям писателей, после 1829 года орнаментация далеко шагнула вперед, в те времена домовладельцы боялись лишних расходов, которые из-за отсутствия конкуренции и нехватки искусных рабочих были довольно значительны. Угловые павильоны, имевшие по три окна на боковых фасадах, венчала высокая кровля с идущей понизу гранитной балюстрадой. В каждом скате крутой пирамидальной крыши было прорезано окно, обрамленное нарядной лепниной, а под ним — изящный балкон со свинцовыми бортами и чугунными перилами. Дверные и оконные консоли на каждом этаже украшала скульптура, скопированная с домов Генуи. Павильон, обращенный тремя окнами к югу, смотрит на Монтеньяк. Другой, северный, повернут к лесу. Из окон, которые выходят в сад, открывается вид на ту часть Монтеньяка, где находятся «Ташроны», и на дорогу, ведущую в центр округа. Со стороны двора глаз отдыхает на беспредельной равнине, которая замкнута горами только по соседству с Монтеньяком, а вдали теряется на линии плоского горизонта. Жилые комнаты расположены двумя этажами, крыша над ними прорезана мансардами в старинном стиле; но оба боковых павильона — трехэтажные. Центральный павильон увенчан приплюснутым куполом, напоминающим купол так называемого павильона часов в Тюильри или в Лувре; там находится только украшенный часами бельведер. Из экономии все кровли были черепичные, но стропила и перекрытия, сделанные из монтеньякского леса, легко несли их огромную тяжесть.