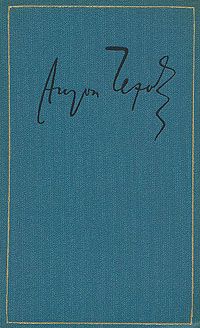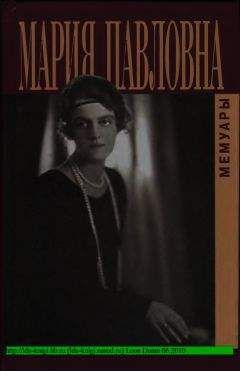Вошел и Лычков-сын, без шапки, тоже с палкой; он остановился и вперил пьяный, бессмысленный взгляд на террасу.
– Не мое дело разбирать вас, – сказал инженер. – Ступай к земскому или к становому.
– Я везде был… прошение подавал… – проговорил Лычков-отец и зарыдал. – Куда мне теперь идти? Значит, он меня теперь убить может? Он, значит, всё может? Это отца-то? Отца?
Он поднял палку и ударил ею сына по голове; тот поднял свою палку и ударил старика прямо по лысине, так что палка даже подскочила. Лычков-отец даже не покачнулся и опять ударил сына, и опять по голове. И так стояли и всё стукали друг друга по головам, и это было похоже не на драку, а скорее на какую-то игру. А за воротами толпились мужики и бабы и молча смотрели во двор, и лица у всех были серьезные. Это пришли мужики, чтобы поздравить с праздником, но, увидев Лычковых, посовестились и не вошли во двор.
На другой день утром Елена Ивановна уехала с детьми в Москву. И пошел слух, что инженер продает свою усадьбу…
К мосту давно пригляделись, и уже трудно было представить себе реку на этом месте без моста. Кучи мусора, оставшиеся с постройки, уже давно поросли травой, про босяков забыли, и вместо «Дубинушки»[27] слышится теперь почти каждый час шум проходящего поезда.
Новая дача давно продана; теперь она принадлежит какому-то чиновнику, который в праздники приезжает сюда из города с семейством, пьет на террасе чай и потом уезжает обратно в город. У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он, как очень важный чиновник, хотя состоит только в чине коллежского секретаря, и когда мужики ему кланяются, то он не отвечает.
В Обручанове все постарели; Козов уже умер, у Родиона в избе стало детей еще больше, у Володьки выросла длинная рыжая борода. Живут по-прежнему бедно.
Ранней весной обручановские пилят дрова около станции. Вот они после работы идут домой, идут не спеша, друг за другом; широкие пилы гнутся на плечах, отсвечивает в них солнце. В кустах по берегу поют соловьи, в небе заливаются жаворонки. На Новой даче тихо, нет ни души, и только золотые голуби, золотые оттого, что их освещает солнце, летают над домом. Всем – и Родиону, и обоим Лычковым, и Володьке – вспоминаются белые лошади, маленькие пони, фейерверки, лодка с фонарями, вспоминается, как жена инженера, красивая, нарядная, приходила в деревню и так ласково говорила. И всего этого точно не было. Всё, как сон или сказка.
Они идут нога за ногу, утомленные, и думают…
В их деревне, думают они, народ хороший, смирный, разумный, бога боится, и Елена Ивановна тоже смирная, добрая, кроткая, было так жалко глядеть на нее, но почему же они не ужились и разошлись, как враги? Что это был за туман, который застилал от глаз самое важное, и видны были только потравы, уздечки, клещи и все эти мелочи, которые теперь при воспоминании кажутся таким вздором? Почему с новым владельцем живут в мире, а с инженером не ладили?
И, не зная, что ответить себе на эти вопросы, все молчат, и только Володька что-то бормочет.
– Что ты? – спрашивает Родион.
– Жили без моста… – говорит Володька мрачно. – Жили мы без моста и не просили… и не надо нам.
Ему никто не отвечает, и идут дальше молча, понурив головы.
Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал белый шпиц.
И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по нескольку раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.
«Если она здесь без мужа и без знакомых, – соображал Гуров, – то было бы не лишнее познакомиться с ней».
Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:
– Низшая раса!
Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.
Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно.
И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь… В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.
Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.
Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.
– Он не кусается, – сказала она и покраснела.
– Можно дать ему кость? – И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: – Вы давно изволили приехать в Ялту?
– Дней пять.
– А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.
Помолчали немного.
– Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! – сказала она, не глядя на него. – Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре – и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.
Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом – и начался шутливый, легкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере,[28] но бросил, имеет в Москве два дома… А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж,[29] – в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.
Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, всё равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, – должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одною тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.
«Что-то в ней есть жалкое все-таки», – подумал он и стал засыпать.
Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.