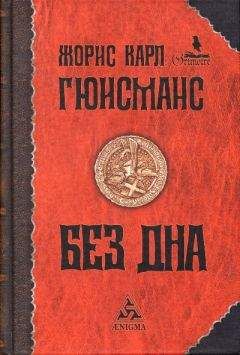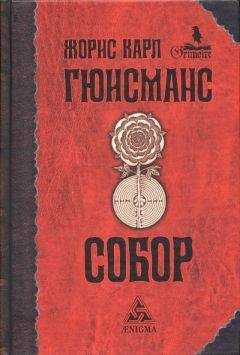И тут почти одновременно Дюрталь испытал один за другим два совершенно различных чувства.
Сначала разочарование, потому что незнакомка нравилась ему больше. Никогда госпоже Шантелув не сравниться с той, чей образ он себе нарисовал, никогда не будет у нее тех странно изысканных черт, того печально надменного лица, той нервно порывистой поступи.
Да и то, что он, оказывается, знал незнакомку, расхолаживало Дюрталя, возвращало с небес на землю; доступность встречи сводила на нет все его мечтания.
Но потом он все же обрадовался. Ведь он мог нарваться на женщину старую, уродливую, а Гиацинта — он теперь называл ее по имени — выглядела очень соблазнительно. Ей самое большее тридцать три. Не красивая, нет, но своеобразная — хрупкая гибкая блондинка с неявными формами, тонкая в кости, она казалась более худощавой, чем была на самом деле. Лицо ее розовато-молочного цвета с тускло-голубым отливом, как у рисовой водки, было далеко от классических канонов, его портил слишком большой нос, но губы — алые, чувственные, из-под них поблескивали безукоризненной белизны зубы.
Удивительное обаяние, обманчивую загадочность придавали этой женщине глаза — как бы пепельные, переменчивые, часто моргающие близорукие глаза, во взгляде которых обычно читалось смиренное приятие прозы жизни, однако порой ее зрачки становились мутными, подобно илистой воде, и тогда на поверхности мерцали серебристые искорки. В туманной глубине этих глаз поочередно мелькали печаль, опустошенность, капризная истома, ледяное высокомерие. Дюрталь хорошо помнил, что ему уже приходилось отступать перед их тайной.
И все-таки, если подумать, страстные письма никак не вязались с внешностью этой женщины. Гиацинта прекрасно владела собой и всегда выглядела отстраненно спокойной и какой-то не от мира сего. Дюрталю пришли на память вечера, проведенные в ее доме; она, казалось, внимательно прислушивалась к разговорам, но сама вступала в них редко; улыбаясь гостям, она никого близко к себе не подпускала.
«В общем, — сказал себе Дюрталь, — какое-то странное раздвоение: с одной стороны, видимой всем, светская дама, осмотрительная, сдержанная хозяйка салона, с другой — сокрытой ото всех, мечтательно-романтичная, неудержимая в своей страсти чувственная натура, явно склонная к болезненной экзальтации. Нет, одно с другим не сходится. Вероятно, я на ложном пути, — продолжал размышлять Дюрталь, — госпожа Шантелув могла случайно заговорить о моих книгах с Дез Эрми. Опрометчиво заключать отсюда, что она влюбилась в меня и написала такие пылкие письма. Нет, это не она. Тогда кто?»
Дюрталь все кружился на одном месте, ни на шаг не приближаясь к разгадке. Он снова возвращался в мыслях к этой женщине, признаваясь себе, что она по-настоящему соблазнительна, стройна и гибка, как подросток, и нет в ней той вульгарной полноты, которая характерна для грузных дебелых мещанок. И этот задумчивый вид, печальный взор, даже холодность — не важно, действительная или напускная — во всем этом было что-то интригующе таинственное.
Дюрталь перебрал в памяти все, что знал о Гиацинте: за Шантелува она вышла замуж вторым браком, детей у нее не было, ее первый муж, который на своей фабрике изготовлял церковное облачение, по неизвестным причинам покончил с собой. Вот, пожалуй, и все. Сплетни же о Шантелувах ходили самые разные.
Шантелув написал историю Польши и Северных союзов, историю Бонифация VIII и его века, жизнеописание блаженной Иоанны де Валуа, основательницы ордена аннунциаток, биографию преподобной матери Анны из Ксентонжа, учредившей общество Святой Урсулы,{39} и другие подобные книги, выходившие в издательствах Лекофр, Пальме, Пусьельг. Эти труды нельзя было себе представить иначе, как переплетенными в коричневый или траурно-черный сафьян. Теперь Шантелув собирался выдвинуть свою кандидатуру в Академию надписей и изящной словесности{40} и надеялся на поддержку партии герцогов. Поэтому раз в неделю он принимал влиятельных особ, титулованных дворян и духовенство — занятие для него тягостное, ведь, несмотря на робкий, смиренный вид, он любил поболтать и повеселиться.
При этом, однако, Шантелув старался составить себе имя и в литературных кругах, имевших вес в Париже, и ухитрялся время от времени зазывать к себе писателей, чтобы заполучить в их лице союзников или по крайней мере предупредить их нападки в тот момент, когда он выставит свою кандидатуру — кандидатуру известного клерикала. Вероятно, желая поладить со своими противниками, он и организовывал эти странные сборища, куда из любопытства являлась самая разношерстная публика.
И потом, если хорошенько поразмыслить, были тут и другие, не столь явные причины. Он имел репутацию человека, любящего направо и налево занимать деньги, беззастенчивого, жуликоватого; всякий раз — Дюрталь сам был свидетелем этого — на званом обеде у Шантелувов присутствовал какой-нибудь изысканно одетый незнакомец, которому хозяин дома, словно в музее восковых фигур, демонстрировал литераторов; поговаривали, что у этого гостя-иностранца Шантелув занимал внушительные суммы.
«Так оно, по всей видимости, и есть, — думал Дюрталь, — ибо, не имея никаких постоянных источников доходов, они живут на широкую ногу. А ведь католические издательства и газеты платят еще хуже, чем светские. Так что, несмотря на известность в клерикальных кругах, Шантелув никак не мог заработать писательским трудом достаточно денег для того, чтобы вести шикарный образ жизни.
Впрочем, не все тут ясно. Вероятно, эта женщина несчастлива в браке и не любит мужа — этот клерикал доверия не внушает. Но в чем заключается ее роль? Знает ли она о денежных махинациях Шантелува? Как бы то ни было, я не вижу, какой ей расчет связываться со мной. Если она заодно с мужем, здравый смысл подсказывал бы ей искать любовника влиятельного и богатого, а Шантелуву прекрасно известно, что я не удовлетворяю ни тому, ни другому условию. Ему очень хорошо известно, что я даже не в состоянии оплатить расходы на наряды его жены, не говоря уже о том, чтобы поддерживать их шаткое хозяйство. У меня около трех тысяч ливров годового дохода, и я сам едва свожу концы с концами.
Значит, дело в другом. Так или иначе, связь с этой женщиной, — решил Дюрталь, пыл которого в результате всех этих умозаключений заметно поубавился, — обещает мало приятного. Но до чего же я глуп! Само положение этой супружеской четы доказывает, что моя неизвестная корреспондентка — вовсе не жена Шантелува и, по зрелом размышлении, оно и к лучшему!»
На следующий день буря, бушевавшая в его душе, немного улеглась. Образ незнакомки по-прежнему тревожил Дюрталя, но теперь по крайней мере он не преследовал его неотступно, а время от времени уходил в тень, и тогда черты ее лица, утратив четкость, становились зыбкими и туманными. Колдовские чары ослабли, и Дюрталь мог наконец перевести дух.
Мысль, внезапно мелькнувшая у него в разговоре с Дез Эрми, что незнакомка — жена Шантелува, в какой-то степени охладила его пыл. Если это она писала письма — а со вчерашнего он переменил свое мнение, ведь если хорошенько все взвесить, выходило, что больше некому, — тогда их будущая связь становилась крайне проблематичной, ибо таила в себе нечто темное, двусмысленное и даже опасное. Дюрталь теперь держался настороже и не позволял себе забываться, как прежде.
И все же в нем происходило что-то еще, что-то непонятное; никогда раньше он не думал о Гиацинте Шантелув, никогда не был в нее влюблен, и, хотя его привлекала загадочная личность этой женщины со странной судьбой, он, как правило, тут же забывал о госпоже Шантелув за порогом ее дома. Теперь же мысли о ней то и дело давали о себе знать, Дюрталь почти желал ее.
Образ незнакомки как бы наложился на образ госпожи Шантелув: Дюрталь не мог достаточно отчетливо восстановить в памяти Гиацинту, и на ее лице стали проступать черты выдуманной им женщины.
Несмотря на то что ему было противно лицемерное притворство ее мужа, госпожа Шантелув ничуть не теряла привлекательности в глазах Дюрталя, хотя его вожделение несколько спало. Он не особенно доверял Гиацинте, но нисколько не сомневался, что она могла стать занятной любовницей, которая скрывает свою дерзкую порочность под изящными манерами. Она как бы обретала плоть, переставала быть видением, которое он измыслил себе в минуту смятения.
Но если догадки Дюрталя неверны, если не госпожа Шантелув писала эти письма, тогда его настоящая корреспондентка явно проигрывала от одной только возможности превращения в знакомую особу. Образ ее становился более определенным, более земным, однако живого человеческого тепла от него не исходило. Очарование незнакомки быстро тускнело, по мере того как она обретала черты госпожи Шантелув, но если последней нечто чужеродное только шло на пользу, интригуя своей новизной, то незнакомка, напротив, многое теряла от той невольной, происходившей в сознании Дюрталя трансплантации некоторых вполне конкретных деталей знакомого женского образа.