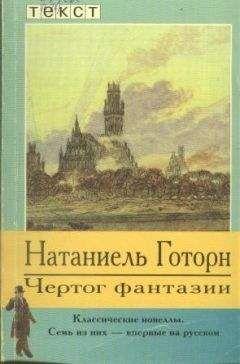Затем началось пиршество, где яствами служили если не все лакомства, сообразные времени года, то уж точно все до единой диковины, какие нашлись в мясных, рыбных и зеленных лавках Нигдении. Меню, к сожалению, утрачено, и упомянем лишь Феникса, запеченного в собственном пламени, холодных фаршированных райских птиц, мороженое из Млечного Пути и молочный кисель из Страны Дураков, который всем пришелся как нельзя более по вкусу. Что до напитков, то люди воздержанные по обыкновению довольствовались водой — правда, водой из Источника Молодости; дамы потягивали целительный бальзам; тем, кто был измучен любовью, изнурен заботами и истерзан горем, подносились чаши, до краев полные летейской влагой; и как можно было догадаться, в золотом сосуде, из которого наливали только избранным, был нектар, выдержанный с античных, мифологических времен. Когда кушанья убрали, собрание, как водится, разговорилось за бокалом: наперебой произносились искрометные речи; впрочем, отчет о них мы предоставляем бесподобному перу Советника Гилла, чьим неоценимым содействием наш Мечтатель своевременно заручился.
Празднество было в зените, когда Предсказатель Погоды украдкой отошел от стола к окну и сунул голову меж пурпурно-золотых занавесей.
— Любезные собратья, — провозгласил он, тщательно вглядевшись в ночь, — весьма советую тем из вас, кто далеко живет, поскорее отправляться в путь, ибо несомненно близится гроза.
— Батюшки! — вскрикнула Матушка Гусыня, оставившая без присмотра своих гусенят и явившаяся в газовом платье и красных шелковых чулках. — Как же я домой-то попаду!
Начался кавардак поспешных сборов и бестолковых расставаний. Однако Исконный Старожил, верный обычаям дней былых, когда вежливость ставилась превыше всего, задержался на пороге озаренного метеорами зала, дабы выразить свою чрезвычайную признательность за доставленное удовольствие.
— Никогда еще на моей памяти, — объявил учтивый старый джентльмен, — не выпадало мне счастья провести столь приятный вечер в таком избранном обществе!
Но тут налетевший ветер прервал его речь, сорвал с него треуголку и унес ее в беспредельные пространства вместе с заготовленным продолжением комплиментов. Многие гости договорились с блуждающими огоньками, чтобы те проводили их домой; а предупредительный хозяин нанял Человека с Луны с огромным фонарем в форме рога, чтобы тот оказал помощь беспросветно одиноким старым девам. Но первый же порыв свирепой бури во мгновение ока загасил все огни и огоньки. Как в наступившей темноте гости ухитрились вернуться на землю и вернулась ли на землю большая их часть? Может статься, они и поныне мечутся среди облаков и туманностей, гонимые яростными шквалами, ушибаясь о балки и стропила развалившегося воздушного замка и путаясь во всевозможных мнимостях, — все это куда больше касается их самих, нежели автора этих строк и читателей таковых. Надо было предвидеть подобные невзгоды, если уж отправляешься очертя голову на празднество в Нигдению.
Перевод В. Муравьева
Мой горемычный друг П. потерял нить своей жизни, временами надолго впадая в какое-то затмение ума. Прошлое для него совмещается с настоящим, и, чтобы судить, насколько такое смешение иногда любопытно, лучше вам прочесть его собственное письмо, чем мои изъяснения по этому поводу. Бедняга, ни единожды не покинувший свою беленую каморку с зарешеченным окном, о которой упоминается в первых строках письма, мнит себя, однако же, завзятым путешественником, повстречавшим в своих странствиях самых разных людей, давно уже незримых ничьими иными очами. По-моему, это не столько заблуждение, сколько отчасти нарочитая, отчасти же невольная игра воображения, которой его недуг сообщил столь болезненную напряженность, что призрачные сцены и лица видятся не менее отчетливо, нежели театральное действо, а правдоподобия в них пожалуй что и побольше. У меня хранится множество его писем: некоторые из них порождены тем же заблуждением, что и нижеследующее, другие предположениями ничуть не менее нелепыми.
Все вместе они образуют некое эпистолярное целое, и если судьба в свое время удалит моего бедного друга из нашего мира, для него иллюзорного, то я обещаю доставить себе позволительное удовольствие и обнародовать их. П. всегда мечтал о славе сочинителя и не один раз безуспешно пытался стяжать таковую. Будет немного странно, если, не достигнув желанной цели при свете разума, он невзначай добьется ее, отуманенно блуждая за пределами нормального.
Лондон, 29 февраля 1845 года
Дорогой друг!
Привычные сближения преследуют ум с поразительным упорством. Ежедневные обыкновения обносят нас как бы каменной стеной, отвердевают почти столь же явственно, как крепчайшие строения человека. Иногда я всерьез задаюсь вопросом, не могут ли идеи быть зримыми, ощутимыми и обладать всеми прочими вещественными свойствами. Вот я: квартирую в Лондоне и пишу тебе, сидя у камина, над которым висит литография королевы Виктории; слышится приглушенный гул мировой столицы, в каких-то пяти шагах от меня окно, я могу подойти к нему и, сколько мне вздумается, созерцать лондонскую жизнь — я твердо знаю, где нахожусь, но как ты думаешь, что меня сейчас неотвязно тревожит? Поверишь ли, я все время будто бы обитаю в той невзрачной каморке — в той беленой комнатушке с одним оконцем, которое мой хозяин то ли из какого-то каприза, то ли для какого-то удобства забрал железными прутьями, — словом, в той самой каморке, где ты по доброте своей так часто навещал меня! Неужели ни за давностью времени, ни за дальностью расстояния я не избавлюсь от наваждения этого скорбного жилища? Я путешествую, не теряя сходства с улиткой: таскаю свой дом на голове. Ну что ж! Видно, я вступаю в тот период жизни, когда сцены и события настоящего не очень-то впечатляют в сравненье с былым; так что надо смириться с тем, что все больше и больше становишься узником памяти, которая лишь ненадолго отпускает прогуляться, да и то с цепью на ноге.
Рекомендательные письма пришлись как нельзя более кстати: я свел знакомства с несколькими значительными лицами, которые до сих пор казались столь же вне пределов моей досягаемости, сколь остроумцы времен королевы Анны или собутыльники Бена Джонсона в «Русалке». Едва ли не первым делом я воспользовался письмом к лорду Байрону. Оказалось, что его сиятельство выглядит куда старше, чем я предполгал, хотя учитывая его прежний пагубный образ жизни и сильную изношенность организма — ничуть не старше, чем ему надлежит выглядеть на пороге седьмого десятка. Просто в своем воображении я наделял его телесный состав духовным бессмертием поэта. На нем каштановый парик, весьма пышно завитой, с начесом на лоб. Выражение глаз его скрыто под очками. Его прежняя склонность к полноте усилилась, и теперь лорд Байрон чудовищно толст: настолько, что производит впечатление непомерно обремененного плотью человека, который не в силах отделить свою личную жизнь от тягостного прозябания огромной телесной массы. Взираешь на груду плоти, вглядываешься в то, что является Байроном, и бормочешь себе под нос: «Господи, да где же он?» Если б я хотел быть язвительным, я бы объявил, что это скопление вещества — осязаемый символ дурных привычек и плотских грехов, оскверняющих природу человека и затрудняющих его сопричастность лучшей жизни. Но это было бы слишком грубо; к тому же нравственность лорда Байрона несказанно улучшилась, между тем как его внешность неописуемо расплылась. Не мешало бы ему, конечно, немного похудеть, а то хоть он и удостоил меня рукопожатия, но рука была словно ватой набита, и я не мог ощутить, что именно она-то и написала «Чайльд Гарольда».
Когда я вошел, его сиятельство извинился за то, что не встает мне навстречу по уважительной причине подагры, которая вот уж несколько лет терзает его правую лодыжку, обернутую во много слоев фланели и возлежавшую на подушке. Другую ногу скрывала драпировка кресла. Не помнишь, какая нога у Байрона была калечная — правая или левая?
Достойный поэт, как ты знаешь, вот уж лет десять живет в супружеском согласии с миледи Байрон; и в согласии этом, заверили меня, нет ни малейшего ущерба или изъяна. Говорят, что они если не счастливы, то, по крайней мере, довольны или, во всяком случае, покойны, сходя по жизненному склону более или менее под руку, и эта обоюдная поддержка поможет им легко и благополучно достигнуть подножия общими силами. Отрадно помышлять о том, что в этом отношении поэт полностью загладил ошибки молодости. С удовольствием прибавлю, что влияние ее сиятельства весьма счастливо сказалось на религиозном облике лорда Байрона. Нынче в нем сочетаются строжайшие принципы методизма[101] с крайностями учения Пьюси[102]; первые, вероятно, соответствуют убеждениям, внушенным ему достойною супругой, а вторые своей красочной прихотливостью удовлетворяют потребностям его мечтательной натуры. Он становится все бережливее; а расходы, которые все же позволяет себе, идут на украшение храмов, так что аристократ, чье имя некогда считалось одним из прозвищ нечистого духа, теперь превозносится почти как святой со столичных и провинциальных кафедр. В политике лорд Байрон твердокаменный консерватор и не упускает случая — в палате лордов или в частном общении — лишний раз обличить и ниспровергнуть злостные и анархические воззрения своих юных лет. Его отчасти притупившееся перо по возможности беспощадно разит и тех, кто нынче подвержен подобным заблуждениям. Саути и он теперь самые закадычные друзья. Ты ведь знаешь, что незадолго до смерти Мура[103] Байрон выгнал этого блестящего, но распущенного поэта из своего дома. Мур принял это оскорбление так близко к сердцу, что говорят, будто оно и вызвало приступ недуга, который свел его в могилу. Другие, правда, утверждают, что Великий Лирик умер в блаженном состоянии духа, распевая одну из своих священных мелодий и уверенно заявляя, что ее услышат у райских врат и тотчас впустят его в Царство небесное с превеликим почетом. Хотел бы я, чтоб так оно и было.