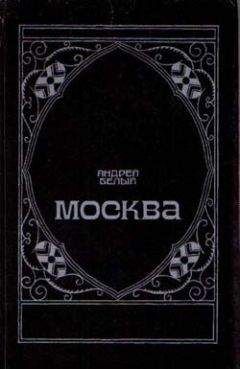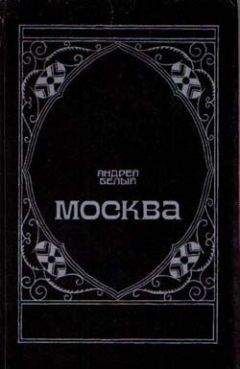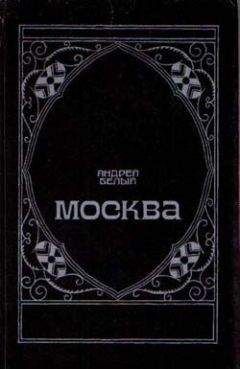Вот он, старик, проезжая по старым местам, направляется к старому месту – раз в месяц (с пяти, с четырех – до семи, до восьми); уже двадцать пять лет (проститутка прошла; и за нею – бобровый поклонник); да, да, – что прикажете!
Это – идейная близость.
Уж высился многоугольными башнями замковый дом от начала Тверского бульвара: Михаил Васильич Сабашников [64] в прошлом году наотрез отказался принять его книгу (печатает молокососов каких-то); Никита Васильевич ехал с поджатой губою под башнями: здесь помещалось издательство.
Дом тот сгорел.
Задопятов смотрел сквозь бульвар, над которым в немом межесвете мельчили охлопочки серые; мальчик кидался там снежными ляпками; ветер поднялся; и шла – рвака листьев; едва прояснились дома Поляковых и дом Голохвасто-ва; Герцен в нем жил; вероятно, гулял на бульваре; гулял – Чаадаев, наверное; может быть, – с Пушкиным; в пушкиноведеньи был Задопятов нетверд: он оставил открытым вопрос, бросив взгляды на дом, где когда-то квартиру держит бонапартовский маршал, – за домом, известным и вам, полицмейстерским, выстроенным Кологриво-вым после пожара московского бывший Курчагина дом: здесь когда-то тянулись владенья – дома и сады – Солового.
Сгорели!
Страстной монастырь!
Приближаяся к месту свидания, так сказать, – он запыхтел; несмотря на преклонные годы, он чувствовал так же себя: четверть века испытывал то же волнение – именно с этого места; прилив беспокойства давал себя знать – совершенно естественный, если принять во внимание: его ожидавшая дама – сердечная, честная личность; и – прочее, прочее…
Гм!…
Неприличная сцена – налево; и – нос завернул он направо; и здесь – неприличие: «улица», – то есть все то, что стоит «улица». Где ж «отличное»?
Там, где нас нет!
А из саночек, быстро летевших за ним, будто падало в спину ему чье-то толстое тело; а город, лиловый, черно-вый, стал смяткою: черней и светов.
Хозяйка сдаваемой комнаты ухо свое приложила к две-рям и – услышала: – Да…
– У Кареева сказано ведь – уф-уф-уф, – и диван затрещал, – что идеи прогресса сияют звездой путеводной, как я выражаюсь, векам и народам…
– Вы это же выразили в «Идеалах гуманности», – вяло сказал женский голос.
– Но я утверждаю…
– Скажу а про по, – перебил женский голос, – когда Милюков [65] вам писал из Болгарии…
– То я ответил, как Павел Владимирович, указав на заметку Чупрова [66]…
– Которую Гольцев завез…
– К Стороженкам…
– И я говорю то же самое, – что; когда вам написал Мил юков…
Тут закракал корсет.
Тут хозяйка сдаваемой комнаты глаз приложила к прощелку замочному и – увидела: ай-ай-ай-ай!
Ай!
Дама лет сорока пяти, или пятидесяти, с заплеснелым лицом, но с подкрасом губы свою грудь заголила, сидела с невкусицей этой перед зеркалом; вовсе без платья, в корсетике с серо-голубенькою оторочкой, в юбчонке короткой и шелковой, цвета «фейль-морт»; платье цвета тайфуна с волной было сброшено на канапе серо-красное, с прожелтью; на канапе же Никита Васильевич – только представьте!
Никита Васильевич сел, раскорячившись, – без сюртука, верхних брюк, без ботинок; и стаскивал с кряхтом кальсонину белую с очень невкусного цвета ноги перед дамой, деляся с ней фразой, написанной только что дома:
– Приходится – уф – chère amie, претерпеть все тяготы обставшей нас прозы…
Стащил – и стал перед ней: голоногий.
Почтенная дама, сконфузившись, пересекала рыжеющий коврик, спеша за постельную ширмочку, – в юбочке, из-под которой торчали две палочки (ножки без ляжек) в сквозных темно-синих чулках; из-за ширмочки встал драматический голос ее, перебивши некстати весьма излиянья прискорбного старца:
– Здесь запах…
– Какой?
– Не скажу, чтобы благоуханный.
Пошлепав губами, отрезал: броском:
– Пахнет штями.
– Весьма…
И действительно: промозглой капустой несло. Шлепал пятками к ширмочке; вздохи теперь раздавались оттуда и – брыки:
– Миляшенька…
– Сильфочка…
– Ах, да ах, – нет…
Наступило молчание: скрипнула громко пружина.
***
В проходе двора на бульвар прижималась к воротам дородная дама в пушащейся шапке, подвязанной черным платком, опираясь рукою о трость; и глядели на лепень сне-жиночек два черно-синих очка безо всякого смысла.
Что было под ними?
***
Никита Васильевич был рыцарь чести; и тайны своей он не выдал: молчал четверть века; и мы соблюдем ее: имя и отчество дамы – секрет; а тем паче фамилия; словом – прекрасная, честная, светлая личность!
Она появилась опять, расправляя морщулю лица:
– Скажу я, – надоело мне…
Вышел, пропузясь, почтеннейший старчище:
– В автократическом – уф – государстве жить трудно…
– Да – нет: я о муже…
– Среда вас заела…
– Отсутствие ярких, общественных импульсов… И приласкалась, схватясь за мизинец:
– Уедемте…
И – помочилась: глазами.
Он – руку отдернул с испугом, подумав, что палец ему лобызнет: помычал, побурчал животом; и покрыл этот урч завиваемой фразой:
– Увы, – как сказал я сегодня, – поднимем же головы выше и с гордо воздетым челом понесем…
Перебила:
– Подайте бандо.
– Понесем, говорю…
– Пудры…
– Скорбь…
Перебила:
– Бежимте!…
Но – вылупил око:
– Жена – не башмак ведь: наденешь – не скинешь… Вскочил.
И кальсоны свои натянуть торопился, как будто его не видала она без кальсон; с кряхтом ногу просунул в сюртучную брюку; она ж, достав зеркальце из полосатого сака, припудрилась; слышалось снова:
– Кареев!…
– Чупров!…
– Милюков…
Гарцевали парадом своих убеждений; вставали свалянные годы, – почти что годов размазня; размазней его мысли питалась она, лишь читая труды Задопятова; третий, второй и четвертый.
Том первый пропал.
– Ну – пора…
– Вы куда же?
– На вечер «Свободной Эстетики».
***
Толстая дама взлив крови к виску ощутила, когда со двора, чуть ее не задев, Задопятов прошел; и за ним сорокапятилетняя дама.
Ах, вот она, – «Сильфочка»!
Юбка отцвечивала желто-рыжим тайфуном с волной; под густою вуалью, усеянной смурыми мушками, виделись все же: черничного цвета глаза и подкрашенный ротик брусничного цвета; ей в спину – ведь ужас – глядели: очки, – не глаза.
Два громадных, почти черно-синих очка стеклянело без всякого там выражения.
Вечер «Свободной Эстетики»! Кто-то заметил:
– Пришел Задопятов.
– Где, где?
Задопятов, исполненный взорами, так белоглаво рыхлея и морща свой лобик, прекнижисто выглядел: видность показывая еле заметным взмаханьем пенсне; на усах оставалася взмока от сырости; перетянувшись и выдавившись толстением зада, тащился, ведомый Рачинским, к огромному креслу почетному, чтоб протянуть свою руку Гедвиге Сергевне Зеланкиной, корреспондентке «Журналь Паризьен».
– Укушу вас за локоть, – призвизгнула громко девица-кривляка поэту-кривляке, прибавив, что ищет она великана, которого нет, но который блуждает меж облак в «Симфонии» Белого.
И Задопятов подумал:
– Куда я попал?
Но заметивши, что Доброносов, казанский профессор словесности, – здесь, успокоился быстро.
Никита Васильевич очень готовился сделать в «Эстетике» некий докладик о драмочке «Смерть Тента-жиля» (ведь вот на какие теперь переходил темы); должен с «Эстетикой», что ни поделайте, был он поддерживать связь: не то «Русская Мысль» станет явно теснить его, – «Русская Мысль», где царил он при Гольцеве.
Ах, – этот Брюсов, и, ах, – этот Струве [67]!
Взнесенье пенсне на обиженный нос показало, что силится он отбарахтаться мыслью от этих назойливых ассоциаций о Брюсове; Брюсова крепко продергивал он в «Русской Мысли»; но Брюсов теперь редактировал «Русскую Мысль».
И подумалось:
«Надо бы – да: постараться бы, – как-нибудь… Надо бы с Брюсовым…»
Щурил рассеянно глаз свой на даму: прическа с прони-зами бусинок, пепелоцветные волосы, родинка, очи с расщу-рами; платье – гри-перль; возраст – тоже: г р и-перль; говорила она, – ей не нравится все то, что есть; и ей нравится то, чего нет; да и то – не совсем; говорила она кавалерику; и – прерассеянно тыкался он моргощурым, дерглявым лицом, собирая на лбу драматический морщень и вновь распуская: он ерзал и задом и мыслями: ни одного прямолетного слова! Слова износились на нем; предлагал многогранники мысли своей; перегранивал гранник в без-гранники; не удивлялась; своим переборчивым взглядом смотрела она беззадорно и кисло на юношу с высмехом (этот пришел позлоумить), бойчившего взглядом.
Поляк русопятствовал там с полякующим русским; и кто-то прошел с каменистым и твердым лицом; стал с улыбкою в каменной позе, оправивши дымчато-голубованные волосы с просизью.